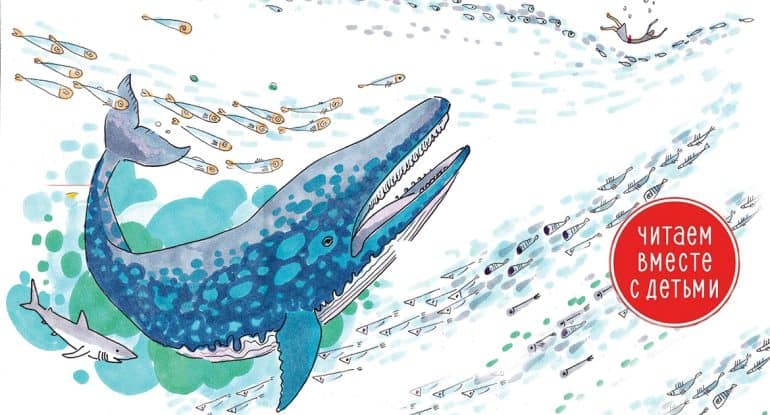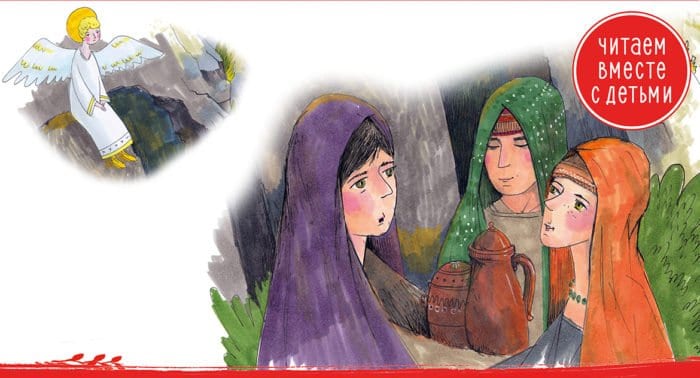Как-то так подоспело время новой поездки. "Курское направление!" День на сборы: ветер и пыль, подборка ассортимента, загрузка машины, коробки, коробки, список, суета, оформление бумаг, деньги на дорогу, шуточки, ценные указания, утром в путь. Утром напарник опаздывает, жара накаляется, набирает мощь, немножко нервно... И все-таки выезжаем. Продираемся прочь из московской печи, паримся в пробках, на светофорах, скорей, скорей на простор, но опять стоим - впереди авария. Мы молчим, мы издыхаем, как кашалоты, пока не вырываемся, наконец, за город - на сквозную, залитую солнцем трассу...
БАЙКА
На мосту, над просторной Окой, припомнилась мне байка о крокодиле.
Будто бы кто-то из местных жителей стал разводить у себя этих тварей. То ли ферму хотел устроить и промышлять себе крокодиловой кожей, то ли доказать хотел на спор, что здесь вполне для них пригодная среда обитания... В самом деле, чем Ока хуже Нила? Жила же в псковских лесах семья шимпанзе! В общем, одна особь, по крайней мере, у него удалась и выросла. Но где-то он, видно, не досмотрел, хозяин, и аллигатор убег.
Хозяин, сукин сын, молчок, никому не сказал ничего. И вот однажды на местной купальне эта рептилия и объявилась... Поначалу-то его за крокодила не принимали, смеялись, обзывали кто "чуркой", кто "бревном", бросались в него, чем придется, понять-то можно. Видно, он такого не ожидал, может потому и рот открыл, вернее пасть. Ну тут ясное дело: сиганули, как те торпедные катера, на берег! Вызвали милицию. Участковый мужик решительный, разговоров не любит, застрелить хотел. Шутка ли - такую опасность обезвредить! Ну тут опять понятно - наши ведь люди-то, вспомнили про "Тотошу и Кокошу", про "Крокодила Гену"... стыдили, умоляли, даже толкать начали. В общем, как участковый ни старался, но так ни разу и не смог попасть рукой в кобуру. Хватились, а зверюга уплыла, ушел объект! И больше не объявлялся. До самой зимы почти. А как ледком стало Оку прихватывать, так он, бедный, и вылез. Стоит, трясется, зуб на зуб не попадает... Жалеют его, гладят, словами ласковыми говорят, давай телогрейками кутать. А куда его? Отволокли его к одной старухе одинокой, да еле четверо мужиков его доперли - такой фугас вымахал. Но выходила его бабуля. На парном молоке, на травах, на водке, спасла короче от смерти это животное... Ручной совсем стал, бегает за бабкой как хвостик, главное воды боится, к реке ни-ни, близко не подойдет. Во как! К ребятишкам все держится, любит с ними возиться, катаются на нем. Говорят, шерстью начал обрастать, на кабана, говорят, стал похож. Вот такая байка.
И что же тут невероятного такого, если разобраться-то?
А еще с моста видать знаменитую пойму. Конца-краю нет огородным рядам на ней, лугам заливным, воистину Ока кормилица-матушка! Открывается живописный край, украшенный зеленой игрой лесистых холмов, садов, полей, Поленов любил эти места...
У МАМЫ
За мостом дорога раздваивается. Прямо - продолжение трассы, но я прошу напарника взять правее - на корявое шоссе, ответвляющееся параллельно трассе. Я решился на это в последний момент. Я решился на это не очень уверенно, я готов был изменить решение в случае какого-либо неудовольствия со стороны своего напарника и (почему-то!) не стал бы настаивать на своем. "Вот видишь, - сказал бы я совести, - я честно пытался заехать туда, но, видно, не судьба, придется как-нибудь в другой раз". И на какое-то время мне хватило бы этого оправдания, для того чтобы...
Дело в том, что эта дорога проходит через село, на его кладбище похоронена мама. Два года, как я не могу выбраться к ней. Но если бы я сейчас проехал мимо, другой дорогой (даже пусть с учетом всех обстоятельств) и удалялся бы все дальше и дальше от этого места и попал бы в такую даль, откуда при всем желании невозможно было бы, опомнившись, возвратиться к ней, что стало бы тогда с любым оправданием? А со мной?
Вот и село, вот и магазинчик, автобусная остановка... За ней, под широкими липами, кресты, оградки, надгробия, вороны и галки. Пробираясь по кладбищу, вспоминаю дорогу, путаюсь в лабиринте могилок, кружу где-то рядом, никак не найду. Пошел назад, повернул и наткнулся...
Заросла совсем могилка. Какие-то сорняки, засохшие ветки, грязный стаканчик с увядшими цветами, свечные огарки. Я начинаю дергать за толстые гадкие стебли, но они не выдергиваются и тогда я выдергиваю их с корнем, бросаю и снова рву, и снова дергаю за что-то, вычищаю... Вроде стало получше. Мама, я пришел.
После инсульта мама не могла говорить, забыла слова. Мир для нее лишился имен и названий. Она любила рассказывать, она все хотела что-то сказать и теперь не могла, не получалось. Я приходил и начинал шутить, обращался с ней так, будто ничего не случилось, я шутил, чтобы хоть как-то отвести ее от этого ужаса, мне казалось, что так ей будет легче. А мама улыбалась и вела себя так, как мне и хоте лось. Чтобы было легче мне... А надо было всего-то навсего посочувствовать, пожалеть, поплакать вместе. Потом была больница, она перестала двигаться. Когда я приходил, она говорила глазами, все время спрашивала: как я? как девочки? как на работе? Когда было больно, мама закрывала глаза. Однажды я заметил, как она стала смотреть вокруг себя, настороженно, испуганно, так, что и сам я стал озираться, ища причину ее беспокойства за изголовьем кровати, в углу у окна... Кого она видела? Что так пугало ее? Помню отца, когда он вышел из "Реанимации", и я все понял до того, как он сказал: "Нет больше нашей мамки". Помню подметавшую рядом нянечку, ее толстую спину, ее: "Ну что ж ты так горько плачешь, дедушка?"', подмела и ушла. Помню расшатанный брезентовый кузов ЗИЛа и гроб, подскакивающий, сдвигающийся, гремящий. Я был с ним один на один. Я ровнял его, придерживая сверху, я не хотел садиться на него, но я не знал, что делать, потому что его снова и снова подбрасывало... Я прижимал его локтями, садился рядом и обнимал его, и проклинал каждый ухаб и каждую выбоину... Ни одна дорога не казалась мне такой бесконечной, как та, по которой мы везли хоронить свою "мамку". Я представлял, как вздрагивает ее маленькое тело, как мотается ее голова со сжатыми мертво губами, словно продолжая терпеть, как вздрагивают каждый раз ее руки, которые столько раз будили меня в детстве, в школу, на работу, и я просыпался легко и блаженно, а руки все гладили меня ее ладошками, все гладили... На похоронах я не плакал, когда прощались не плакал и когда закапывали ее, тоже не плакал. А потом много ел и пил и трепался и курил на деревенском дворе и мерился силушкой с местными мужиками. Был май, цвели сады...
Дорога пошла под горку и потом круто на гору, и вот уже скоро справа покажется на холме деревенька с детским названием Вишенки. Родина мамы. Когда-то весной холм действительно покрывался сплошной белой кипенью вишневых садов. Тульская область. Шоссе наше узенькое, но уютное, горка за горкой, и каждую минуту что-нибудь новенькое. Явится вдруг покатое поле и стадо, сходящее неторопливо к ручью, деревенские девчонки, идущие с речки, помашут рукой и ты ответишь им тем же, не успев и подумать, что никогда их больше не встретишь, что видел ты их в последний раз... А то с пригорка явится взору местность, вся в солнце, глянет на тебя как с ладони, так, что ухватится глазом каждая ее подробность, до последней черточки: и деревенский пруд со старою ивой, и кривобокий коровник, и бабулька, выволакивающая мешок из сарая, и штабель свежетесанных бревен с вырубами на концах, и завалившийся трактор в канаве, по которому один мужик лупит кувалдой, а двое других то ли спорят, то ли договариваются о чем-то, и девчушка с желтым бантом, упавшая в лопухи, догоняя ребят на велосипедах, и проселочная дорога, ползущая вверх, через поле, в далекий, голубеющий в дымке лес... И вот пропадет эта картинка и побегут вслед за ней овраги и рощи, ни постройки, ни человека, и вымахнет из-под земли сосновый лес и зарябит от солнца в глазах, и ты переведешь взгляд на водителя, на его спокойно-внимательное лицо и откинешься на спинку сиденья и прикроешь глаза и задумаешься о чем-нибудь...
Льгов - городок за железной дорогой, за шлагбаумом, за путями, за поселками, как бы отложенный для чего-то до времени, да и забытый. Народ ходит в типовые палатки-павильончики, лузгает семечки и пьет. Компания парней пересекает дорогу: выражения лиц соответствуют выражениям речи... В середине городка мы поднялись на взгорок, свернули вправо и въехали в церковную ограду. Под высокими деревьями густая зеленая тень, храм открыт. Настоятель статный, с черной дворянской бородкой, нетороплив, если не сказать медлителен. Вкруг него молодые мамаши - помощницы и "подберезовики" детских головок.
- Крестики это хорошо, это мы возьмем. Вот нам бы разных побольше.
- Посмотрите, батюшка, какие есть.
- Вот эти красивые... Дорогие?
Подходит женщина, видно не первый раз уж, просит отпеть покойника. Дети толкутся, каждый хочет поближе к батюшке.
- И много у Вас прихожан?
- Сейчас мало - уборочная.
- Понятно.
Женщина отошла в сторонку, смотрит.
- У нас, знаете, свой жизненный ритм... На Успенье битком будет, еще и на улице стоять будут, - и он повел глазами, как бы окидывая стоящих.
Ребятня обсуждает крестики:
- Смотри, с каким распятием!
- А этот глянь...
- Ты чего взял, они не твои!
- Я не взял, я смотрю...
О ней он как будто забыл.
- Это сейчас тишина, а так ходит народ, - сказал он и обернулся ...
Они тут в "своем ритме". Вот когда вернутся "с уборочной", "они"... загорело-свинцовые, в выжженных майках, вернутся на ужас врагам и шпане, а их уж и ждут на взгорке, в платочках, в платьях, в сарафанах, и бабки выползли с внучатами: идут родимые, собрали, слава Те, управились к празднику. И все прямиком в эту в церковь, "Благословенно Царство..!" и в поклон как один - "Господи помилуй", и еще, еще, - снопами упругими, и храм "битком", и все "они" молятся, молятся, размашисто, "за всех и за вся", ангелы ликовствовать не успевают над ними... а за оградой, как побитая градом рожь - пьяная молодежь, плача, припадает, падает, припадает... И настелется радость чистыми скатертями за "Честнейшую Херувим" и никто уж никого не вырубит, и не "выжрут" литрами, а поднесут к губам алмазную влагу, споют и станцуют, отмоленные, и снова споют, засидятся до темна, и до звезд. Тогда застелятся ложа чистыми простынями, и вызреет звездами ночь, тяжелыми виноградинами, и налитые плечи нависнут истомой над ласковым полюшком, придет их час... И проснутся они утром, глядя на жен своих, ходящих туда-сюда, и семя их в них, так начнется осень и бабье лето, и эти ночи, и на исходе весны родят им после Пасхи, после светлой седмицы...
- Такой у нас ритм, - приговаривает батюшка, перед ним четыре горки отобранных крестиков, он пересчитывает, не спеша...
А за крестиками чьи-то крещеные души. Их еще нет на свете, а крестики уж вот искрятся, готовы им. Их еще нет, они появятся в мае - начале лета, и отцы их еще на уборочной. Такой у них ритм.
- Да, вместе с ними надо пройти все проектные параметры, именно, пусть учатся, - сказала кому-то
женщина.
Я сбился со счета.
- "Проектные параметры", - повторил тихо батюшка, - как мне его отпевать, когда он... невозможно…
Я снова считаю деньги. "Проектные параметры", зачем они, к чему? Что за чушь?
- И пусть они сами, эти проектные параметры, сами потом, просчитывают, - опять она!
Ей за пятьдесят, черный платок, черные невидящие глаза... дались они ей эти "проектные параметры", что они такое? Напарник отложил кроссворд:
- Перехватить бы чего...
Она проходит мимо нас, со своей собеседницей, и та поддакивает уважительно. Слышатся одни параметры"... "параметры"...
- Нет, слава Богу, народ ходит, - говорит батюшка, забирая крестики и несколько книжек, - и молодежь есть...
"Проектные параметры!" - вопит не отпетая над нами душа...
Поесть мы зашли в кафе у гостиницы. Днем тут тихо. Нас обслуживают домашнего вида тети. Одна из них протирает перед нами стол.
- Откуда такое название - "Льгов"? - спрашиваю, следя глазами за тряпкой.
- Ой, я даже не знаю, - тряпка замирает на полукруге. - Коль, ты не знаешь?
Коля - мужик средних лет, налаживает на сцене светомузыку.
- Раньше назывался "Ольгов", - он взял пассатижи и что-то перекусил, - Ольга была тут, княгиня... проезжала, что ль. Потом букву "О" кто-то, может, сбили, может, еще что, с вывески... или с указателя... хрен его знает. Короче, стал "Льгов", так и пошло.
Посмотреть бы на эту вывеску.
- Ой, надо же, а я не знала!
ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
В обители, в наших услугах, нужды не наблюдается: здесь хватает литературы, в том числе и той, что мы предлагаем. Но мы не в обиде. На обратном пути заезжаем к "Источнику", который находится в каких-нибудь полутора-двух километрах от поселка, и ставим машину на автостоянке, втиснувшись между двумя "девятками". Стоянка уже забита машинами, одна за другой прибывают свадьбы, подходят паломники и любопытствующие, бегает малышня... У входа на территорию дежурят монахи, перед ними, на железных загородках, висят сложенные покрывала, это для голоногих дам и тортовых господ - чтобы было, чем прикрыться. Дорожка легко приводит к храму Живоносный Источник. Чуть левее, под алтарем, этот самый источник и бьет, напористо и леденяще, в каменистой ложбинке. У источника идет беспрестанный набор воды во всевозможную посуду и емкости, плеск, стук, звяканье. А слева от него стоит купальня - деревянный домик под высоким шатром. Вот бы куда мне надо попасть, а то когда еще доведется? Приятель отказывается, говорит у него что-то с горлом. Но меня уже, чувствую, повело... Между мной и купальней группа женщин читает и поет акафист преподобному Тихону - чудотворцу, стоят на коленях и кланяются. Ниже, на ступеньках, спускающихся к крыльцу, вплоть до самых дверей купальни - плотная толпа, тоже вся в платках и юбках. Мужеска полу не видно.
Подхожу узнать, каков тут порядок.
- В очередь, в очередь,- отсылают меня твердые, как нукеры, бабули.
Отступаю на исходную позицию.
- Да Вы постучитесь, мужчинам без очереди, - вдохновляет меня стоящий у книжных лотков священник.
Ну раз такое дело... Стучусь в дверь. Открывает монах с мокрыми волосами:
- Давайте, только быстро! - говорит он, прикрывая дверь.
Вместе со мной просочился паренек лет десяти, в раздевалке тесно от мужиков, застегивающих порты и рубахи, но они уже готовы к выходу, уже отдуваются от духоты, и скоро мы остаемся одни.
Стою в трусах... решаюсь.
- Тут надо голышом, - подсказывает он.
Голышом, так голышом. Спускаюсь по сырой лесенке, уходящей в кристально стоячую воду. Пацан семенит за мной. Ступаю...
- Ну как?! - кричит он диким шепотом.
- Ух-х...
Захожу по пояс, читаю, дрожа, "Отче наш...", крестимся, смотрю в высокий лучистый купол и резко присев, ухожу с головой в морозную жуткую воду... Выпрыгиваю ошалелой белугой! Не знаю где я! Грудь разрывается..!
- Еще два раза нужно! - в веселом ужасе орет малыш, он тоже нырнул и выскочил на лестницу.
Второй, и тут же третий нырок... Выскакиваем на лестницу, гогоча от счастья! Пацан бежит впереди:
- Ой - я замерзну!
- Не замерзнешь, - говорю я, бухая пятками...
И точно, скоро все тело обдает теплым ласковым пламенем.
Одеваемся торопливо, за дверью все громче женские голоса.
- Тебя как звать-то?
- Антон, а Вас?
Знакомимся. Господи, как славно дышится... Фух!
- Я не успею одеться! - паникует пацан.
- Не боись, я без тебя не уйду...
На стоянке нахожу скучающего приятеля.
- Ну как? - улыбается он.
- Во!
Заглядываем в монастырский ларек и покупаем в нем дешевые "скусные" булочки и знаменитую луковую буханку. Рядом торгуют горячим монастырским чаем, на травах. Теперь можно и перекусить, Сам Бог велел...
САМОЗВАНЕЦ
Чай в самом деле хорош. Мы отхлебываем из стаканчиков маленькими глотками, покусываем булочки, и поглядываем вокруг себя. Подъехала еще одна свадьба. Молодые, после некоторой заминки, направляются к Источнику, за ними потянулась, перебрасываясь шуточками, и вся компания, выглаженная и причесанная, а посему несколько скованная в движениях, исполненная момента...
Перед входом, у загородок, возник шумок, какая-то неразбериха: дежурные-послушники выталкивают прочь какого-то монаха с коробкой для подаяний, тот, вяло сопротивляясь, отходит к стоянке, останавливается, неуверенно вертит головой, видно ругается... Похоже, что самозванец.
Нищие стали косить под монахов! Расчет в общем верный, учитывают ситуацию. Хотя не такая уж это и редкость, мне, например, известен один случай на эту тему, можно сказать, совсем свежий...
В одном городке один бездомный мошенник зарабатывал себе на жизнь таким же вот точно способом. Подрясник и камилавку стащил он с одного, напившегося до "положения риз", монаха, ящик был у него тоже самый настоящий - латунный, с замочком, который он стырил ночью из сельского храма, а бороду он имел свою, вполне подходящую к этому маскараду. Стоял он обычно на привокзальной площади, и вот как-то, средь бела дня подлетает к нему "навороченный" джип, выскакивает здоровенный парень, "качок" такой, и сует ему в ящик стодолларовую бумажку...
- Молись, - говорит, - за меня, святой отец! Всеми молитвами, какие знаешь, молись!..
"Монах", видя такое дело, не растерялся и ответил, как полагается:
- За кого молиться-то?
Тот говорит ему имя, прыгает в джип и рвет в неизвестном направлении...
На сто "зеленых" этот бомж устраивает у себя в подвальчике шикарную жизнь. Пирует с дружками и без дружков, не забывая всякий раз выпить "за здравие" того заполошного олуха - своего благодетеля... А дальше, дальше происходит с ним то, что не может он никак избавиться от слов того парня: "Молись за меня, святой отец!", и во сне его видит, и наяву иной раз... Поначалу думал, что с перепоя, потом стал подозревать нечистую силу, дошло до того, что перебрался аж в другой город, но ничего не спасало. Потом уж не знал, что и думать, страх его взял, достал его до крайности тот "бык" стриженый. Плюнул он, пришел в церковь, взмолился! Его выгнали оттуда, распознав самозванца в подряснике, а у него к тому времени другой-то одежды и не было: сгорел его скарб после очередной пьянки. С ним еще много чего случалось: и тонул, и нос ему свернули в драке, бомжи его уже "попом" звали, он и молитвы кой-какие знать стал... Но страх не проходил, слова "молись за меня..." ("Да молюсь я! Молюсь!!" - кричал он по ночам), что называется, допекли его, измучили до невозможности.
Решил он покончить со всем этим, а заодно и с собой, одним махом: напился какой-то дряни и слег, начались судороги. Трое суток его рвало и выворачивало наизнанку... И ничего! Встал он тощий, страшный, и пошел по монастырям. В храмы опасался заходить, молился снаружи, у паперти. Зимой, наместник одной обители, проговорив с ним до утра, взял его к себе, послушником.
Через год его рукоположили! Но это не все...
Однажды на Страстной неделе, на исповеди, подходит к нему больной с виду парень, и начинает что-то говорить, потом смотрит на него ... и вдруг:
- Святой отец! Святой отец, ты помнишь меня?
И батюшка узнает его, онемев, узнает в нем того здоровяка из джипа Парень плачет; руки ему целует:
- Ты меня спас, отец, я ведь покойник был, совсем...
А "святой отец" валится у всех на глазах ему в ноги:
- Прости меня, Христа ради!!!
С парнем почти та же история вышла. Его давным-давно уж не должно было быть в живых - свои же приговорили на "разборке", застрелили и бросили в болото... Да вот не засосало до конца, оказался на чем-то твердом... и выжил, вытащили деревенские! Шесть операций, постоянные головные боли, одышка... Скитался, скрывался, где мог, пока не пустили его в заброшенный домик в одном селе, в трех километрах от этого монастыря...
Интересно, приняли его в монастырь или нет? (знаю, что он просился).
А так бы хотелось видеть: Батюшка-"бомж" в алтаре:
- "Мир все-е-ем!"
И молодого диакона-"бандита":
- "Паки и паки миром Господу помо-олимся..."
Да, хотелось бы видеть... И хотелось бы верить в такую концовку этой баллады или притчи. Но чем больше задумываюсь о ней, тем больше ловлю себя на противоречии:
- Что-то больно благостно как-то, тебе не кажется?
- Ну, как тебе сказать...
- Жизнь-то наша скорее другой поворот диктует.
- Но ты же не можешь утверждать, что такого не может быть в нагие время?
- Не типично. Слишком большой разрыв между тем, во что мы должны поверить, и тем, во что мы готовы бы были поверить, понимаешь?
- Понимаю: бомж сгорел по пьянке в подвале, а труп бандита выбросили, как собаку, в болото - и с концами. Резюме: туда им и дорога.
- В это верится безусловно, но я не об этом.
- Вариант высокого искусства (театра, кино, литературы): бомж вкладывает сто баксов в дело, ему "везет", он становится "крутым", и все такое, а бандиту "не везет", он опускается и скатывается на "обочину жизни"... В результате они меняются местами, и вот уже бывший бомж, из джипа, кидает ему сто зеленых - в расчете!
- А мораль?
- Мораль можно подобрать... ну к примеру: верь в свой шанс и Бог не оставит тебя!
- И чтобы этот бомж, вернее, бывший бомж, стал " положительным", внушающим доверие, добрым каким-нибудь, чтобы на храм пожертвовал... или лучше всего намекнуть как-то на все это, аккуратно только... Нужно так, чтобы я смог позволить себе догадываться и умиляться на такое преображение, чтобы мог допустить к себе во что-то высшее поверить...
- А иначе твое чумазенькое достоинство не позволяет поверить, что они настолько вот лучше (Й главное - чище!) тебя?
- Не поймут же люди, не примут ведь!
- Ну уж как есть, так и рассказал.
- Малоубедительно, слишком мало.
- А лет десять назад?
- Вообще бы никто слушать не стал..."
О ЛЮБВИ
Едва вернувшись на трассу, мы опять уходим с нее - на Медынь. По этой дороге мы еще не ездили, проводим разведку. Места довольно заселенные, обжитые... А имена! Каравай, речка Сечна... Навстречу летит пушистое сосновое облако - смуглоножки в черных сапожках... Товарково, Жилетово, луга березовые. Полотняный Завод, поклон Наталье Николаевне. Чем не поэзия: река Суходрев, деревня Уткино, Старки, Кондрово... На ярко-зеленом поле - море светло светлых берез - конца им не видно, и зацепилась душа за них, так бы и осталась здесь... Адамовское, Ула-ново, река Медынка - с горки через мосток. Медынь... тягуче-душистое... Церквей нигде не встречаем. Пролетела мимо свадьба, летают по дороге шары... Поворачиваем на Москву. В деревнях торгуют яблоками и картошкой. Картошку продают не больше ведра, говорят - не уродилась, а цены выше московских. Лука же вовсе нет, скоро у нас и впрямь - "никакого лука, только "Стиморол-про-зет"!
Оборвались деревни, пошла лесная чаща. Кудиново, знакомый поселок, на остановке голосует парнишка, безнадежно как-то, проезжаем... почему-то. Поодаль кодлянка пацанов, сидят над кюветом.. Что-то грустные, или не решили чем заняться еще. Макушки торчат из травы, ершистые... мал-мала меньше, как репейники у дороги...
- Дети, дети... - вздохнул напарник.
- Да-а...
- Никому до них дела нет, - сказал он.
И я кивнул и посмотрел на зеркало заднего вида, но их уже не было видно. Всякий раз сжимается сердце, как от укола. Неприкаянные одинокие человечки... Что там в душе у них? Что-то там варится в их головках... И очень часто встает перед глазами детская убогая палата в подмосковной больнице.
Я ходил туда несколько дней, навещая с приятелем-соседом его сынишку. Против двери, в углу, на кроватке, лежал тихий прозрачный человечек. Ника. Пятилетняя девочка, которую все называли Ниточкой. "Как там наша Ниточка?" - входил в палату завотделением Руслан Исмаилович. Ее привезли с тяжелейшим отравлением - сальмонеллез, и с явной угрозой заражения крови. Пропустили податливое тельце через жесткий конвейер промывок, клизм, процедур, уколов и капельниц, но кризис не проходил. "Раньше, раньше надо было, - говорили врачи, - теперь уже как Бог даст, организм на нуле почти..."
В эту палату ее перевели со все еще высокой температурой, и со все еще сумрачно витавшей над ней неизбежностью. За все то время, пока она была в больнице, пару раз к ней приезжала бабка, "оплывшая опара", - как обрисовал ее однажды дежурный врач. "Приехала, хоть бы соку какого привезла, хоть игрушку какую ребенку, - рассказывал он мне в курилке, - стала допытываться у нее, писалась она ночью или нет. Ну бабка! Я бы ее горшком по лбу, старую!.."
В тот день я стоял и смотрел в окно, на дождливый, заляпанный липкими листьями больничный двор. За спиной я слышал один и тот же голос пожилой медсестры, сидевшей у ее кроватки... Как на заезженной пластинке: "Ну что тебе хочется, а? Ну скажи мне, Ниточка, девочка, скажи... Может, тебе почитать что-нибудь, а? Чего тебе хочется? Ну что ты все молчишь и молчишь, так нельзя. Что тебе дать, ну? Скажи..."
Ниточка уже не металась, не дышала тяжко, растянув колечком сухие губы, второй день, как лежит она с раскрытыми глазами, и молчит. Слушает всех и молчит... В тот день Ниточка заговорила. После очередного "чего тебе хочется", вдруг что-то ответила. "Что?.. Что ты сказала? Повтори, деточка..." - тут же насела на нее медсестра, и в натянувшейся паузе, как из другого мира, прозвучало чуть хрипловатое Ниточкино – "Чтобы меня любили"… "Что, что? – опять не поняла медсестра. "Чтобы меня любили," – повторила она.
Ниточка заговорила.
Голосок ее иногда подрагивал, но никакого намека на слезы, на жалобу не было и в помине. Как-то стала наполняться медперсоналом палата, подходили врачи, нянечки бросали свои тряпки и ведра, привстали со своих коек дети...
'"Если бы меня любили... Потому что я боюсь одна. А так, мне ничего не хочется совсем. Просто я боюсь, потому что... потому что мне страшно, и ведь меня не любят... Почему-то не любят, а других любят. Потому что я "никудышная"... и я думаю если умереть, то уже не так страшно жить, потому что я не буду бояться там. Я буду там жить..."
Она лежала, вытянув стебельками руки, окруженная халатами, словно в зимнем лесу, когда бывает слышно, как осыпается с елей задетый снег. Никто не прерывал ее. Стояли и слушали этого маленького человечка.
..."Там все люди добрые, они называются ангелами... и Вера Сергеевна там, и Сашок, мне Юрий Сергеич рассказывал. Они там будут играть со мной, они там со всеми детьми играют, и будут мне игрушки дарить, потому что там все-все бесплатно и всех любят... И там еще все улыбаются. Если там кому-нибудь что-то захочется, то все дают ему, чтобы ему не было плохо, и чтобы он тоже смеялся, как все... Как там хорошо! Там всем хорошо, так весело, и никто не кричит, а если закричит, то все скажут: "Ты что?" и он перестанет, потому что кто туда попадет, тот делается хороший и не ругается... И не наказывает. И меня тоже там будут любить, как всех... и когда Мальчик умрет, он тоже там будет со мной. Жалко что он здесь останется, потому что его бьют. У него жизнь тоже, - вздохнула она, - "никудышная"... Он так любит меня, и сразу бежит ко мне и все время лижет мне в нос, ну прямо все время, глупик такой... И он лает, когда меня руга ют и кусается и его поэтому бьют. Он совсем рыжий, только ушки черные и нос. И еще на хвостике...".
- Так она умерла? - спросил напарник, когда я кончил рассказ.
- Нет, жива Ниточка.
Проезжаем Малоярославец... Знакомый городок. Рынок. Здание бывшей почтовой станции... Гоголь здесь проживал, проездом в Оптину. Храм на площади... закрытый. На выезде, крохотный музей памяти 1812 года... Наполеона-то отсюда погнали. Маленький городок.
- Ниточка, Ниточка... - сказал он вдруг. - И чего нам не живется так, а?
- Как? - спросил я, глядя на молодого отца, обучавшего пацана своего подтягиваться на турнике...
- Как "там ".
- "Там" , это где?
- Ну, как она говорит: "там"... в раю, наверно... Чего нам не живется-то?
- Не знаю.
Пошли сосновые горки. Сосны-то хороши - крепкие ребята, любо-дорого...
- Тогда б наверное и рая не было, - ответил он сам себе.
- Перед выпиской устроили ей "день рождения". Решили неожиданно, скинулись... и медперсонал, и врачи, и родители, в основном из этой палаты, конечно. Платье ей подарили, костюмчик спортивный, а уж игрушек было! Ты бы видел ее... А реакция знаешь какая была?
- Знаю, - сказал он, - заплакала.
- Точно. Заплакала. Ну хоть увидели, как она смеяться умеет, смеется и плачет, все сразу... Вся кроватка в подарках. Кто-то даже баян приволок, в общем...
- Что?
- В общем, весело было, наплакались все.
- Представляю, - сказал он и замолчал.
А в деревеньках огурчики продают... и яблоки. Кончается наша дорожка. Каких-нибудь сто двадцать верст осталось... "Осталось"...
Господи! Сколько всем нам осталось? Все летит... все просится, все живет... Все, все помнится... Все стучит! Уносится жизнь моя. Уносится куда-то...
- Ну что, посмотрел на "страну Российскую"?
- Посмотрел.
- Ну и что?
- А ничего.
- Вот то-то и оно, что "ничего". Одно сплошное везде и хроническое...
- Видишь, теленок стоит?
- Причем тут теленок?
- Мамку-то доят, наверное, а он вот привязанный остался... вишь как стоит, глазеет на всех...
- Что-то я не пойму, причем тут...
- Я бы сейчас вышел, взял бы его за ушки и чмокнул бы в лоб его, глупый...
- Что это с тобой?
- Ничего... Ничего не могу поделать с собой, вот что! Задыхаюсь от... все целую, все что, вижу, целую! целую! целую!..
- Мужик, ты сдурел?
- И бабку эту, и работяг с раствором, и парня этого поддатого...
Сказал бы ей: "Бабуль, дай, я тебя поцелую!" Она бы так рот и разинула, а я и поцеловал бы, в щеку ее дрябленькую...
- Чокнулся. Хорошо хоть умные люди не слышат, а то ведь подумают...
- А пусть себе слушают, особенно "умные".
- Иди еще вон ту ворону поцелуй, на куче песка.
- И ворону тоже, замечательное животное!
- Представляю, как бы ты приставал ко всем...
- Я же сердцем целую, дубина! Сердцем!
- Ты что, ослеп? Очнись! Не видишь, что творится вокруг?
Не видел опустившихся мужиков в деревнях? Не видел заброшенных полей?
Не видел местных девчонок, блюющих по утрам у гостиниц?
Не видел пьяных монахов?
Не видел стариков на помойках?
Не видел ты уставших людей, безмерно уставших, которые уже ничего не ждут?!
- Видел. Я все видел.
- Ну и как тебе это "все"?
- Целую... ничего не могу поделать..."
Деревеньки, родные, провожают нас еще немного, и остаются за спиной... Доброе. Делаем круг. ГАИ. И поворот на Москву, на широкую скоростную трассу. Выстелился до синего леса, зеленый луг, как озеро, жива еще в нем забытая русская удаль... Жаль, что теперь до самой Москвы, не выйдет уж к нам ни одной деревни, все больше трубы, да заправки, да арбузные пирамиды. Обнинск.
Сходит летушко, кончается милое, вот уже отдают светлым оловом листья, буреют головушки дубовые, назревает осень... Скоро, совсем уж скоро завернут к нам холода и дожди, набухнет сверху, навяжет, и поубавится света белого, и зашелестят леса, застонут и засвистят, заколотят ветками в непогоду, и обезлюдят пляжи и берега, задернутся рябью озера, и погаснут их зеркала до самой весны... А мы пригнемся под зонтиками, станем злиться и жаловаться, переместимся на кухни и спальни и приготовимся к неприятностям, а когда вернутся вдруг теплые дни, мы примем их, но не обманемся, как не обманываются обрадованные родители приезду взрослых детей - погостят с недельку и ведь уедут...
Включили приемник, затрещало: "... ха-ха-ха! тра-та-та, Стив Уандер культовая фигура тра-та-та Голивуд Тарантино легенда наркотики супер Джон хит Пол рок Майкл бум-бум-бум... тра-та-та Шуйская Чупа транш дефолт эМВээФ Камдесю президент саммит бюджет рыбалки кризис... га-га-га ты хотел меня любить я уняла твою прыть е-е... блюз стриптиз погрузитесь в мир удовольствии ваш престиж казино Метрополь... слушайте радио остальное видимость... тра-та-та бомбардировки Сербии миротворцами контроль Косово НАТО успех сообщества останки какая боль: Аргентина Ямайка пять ноль!., где бы вы ни были ночью и днем... слив компромата потерпел катастрофу скандал ураган количество жертв ОМОН разборки Чечня олигарх Гол-дэн Пэлас Чубайс холокост мафия блоки шоу выборы Шойгу эМЧээС пожары Виагра секс конференция Олбрайт Читтануга чукча я бабушка по имени Хочу! бодрого вам настроения и приятных хи-хи развлечений друг с другом на длинную-предлинную ночь а пока тра-та-та-ха-ха-ха-бум-бум-бум!.."
Показалась Москва... разбегается пригород, лезут в небо дома...
Надвигается стенами и башнями родной мегаполис, в котором люди живут, как грибники... Кстати, отчего в Москве совершенно не замечаешь неба? Как будто и нет его вовсе.
Наша машина, в потоке тысяч таких же, подобных, заносится песчинкою в этот непомерный загадочный город, чтобы затеряться где-то там, в его каменных лабиринтах, и незаметно замкнуть свой путь…
Малаховка, 1998-2000