Когда мы решили открыть новогодний разворот наших «Строф» ранними стихами (позже я объясню, в чем дело) этого поэта, я задумался: как мне представить его здесь и сейчас? Помнит ли о нем наш постоянный читатель? И что сказать тем, кто видит это дорогое для меня имя — впервые? Наконец, решил обратиться с просьбой — и к тем, кому поэзия Игоря Меламеда знакома, и к тем, кто откроет его сегодня. Найдите в сети две его предыдущие «фомовские» публикации: осеннюю, 2007 года («В покаянной ночи», он был ей по-детски рад) и — посмертную — «Под вечную кровлю» (№ 6, 2014).
Попробуйте прочитать в порядке появления, включая нынешнее.
Откроется мудрое и нежное сердце; увидится — душа высокого таланта.

…В этой недолгой и протяжённо-насыщенной 52-летней жизни на самом излёте века случилась жестокая травма, на полтора десятка лет и до кончины приковавшая поэта к письменному столу, точнее, к столу-постели. С изнуряющими позвоночными болями он жил почти круглосуточно, продолжая складывать свои стихи-вопрошания, стихи-признания, стихи-молитвы. Об этой его поэзии размышляют горячо и отзывчиво. Так, в прошлом году, когда поэту могло бы исполниться 60 лет, волнующее поминание написал близкий друг — Павел Басинский, который знал Меламеда с 20-летнего возраста.
Глубоким биографическим очерком («перепрочтением») другого очень близкого — поэта и филолога Дмитрия Бака — открывается посмертный трехтомник Игоря, выпущенный под вдумчивым патронажем редактора и поэта Максима Амелина. Еще из тех, кто прочитал-пережил — и талантливо поделился пережитым, поклонюсь Екатерине Ивановой (её эссе 2015 года «Поэт катастрофического сознания», в моем понимании, — лучшее разрешение баратынской надежды на верного «читателя в потомстве»).
Совместный проект журналов «Фома» и «Новый мир» — рубрика «Строфы» Павла Крючкова, заместителя главного редактора и заведующего отдела поэзии «Нового мира».
Ранние стихи в сегодняшних «Строфах» — из тех, что были написаны задолго до травмы. И мне от них так же больно и светло, как и от будущих Игоревых молений.
Спасибо, что ты был, друг. Спасибо, что — есть.
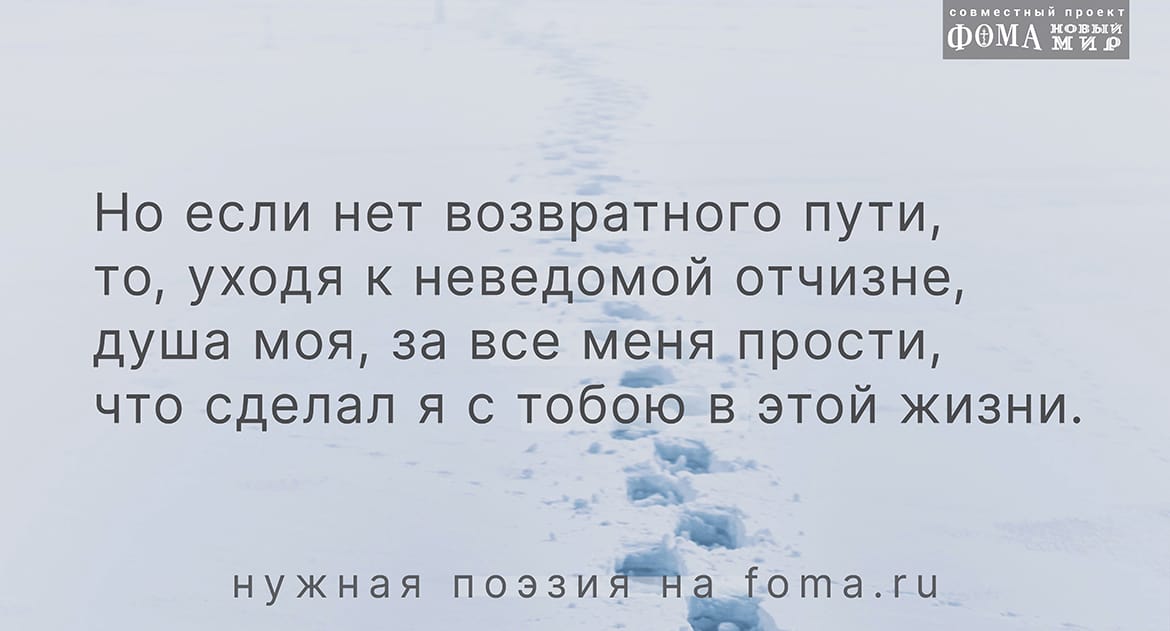
[Из раннего]
***
Когда стихает музыка в ушах,
И лёгкий дым последнего аккорда
Уходит ввысь — взметённая душа
Ещё дрожит возвышенно и гордо.
Когда последний взмах карандаша
Раздаривает знаки препинанья —
Себя пересоздавшая душа
Ещё дрожит в сетях стихостраданья.
Покуда тело мечется, спеша,
Ликуя в завоёванном пространстве,
Прекрасная, скудельная душа
Не успевает с музыкой расстаться.
3 июня 1981
***
День провожает белый всадник снега.
Его душа, уставшая от бега,
чужая небу, странная земле,
ещё висит в пространстве для чего-то
и, как ребёнок, плачет большерото
над городом, стихающим во мгле.
И в эту полночь звёздного наркоза
нам будут сниться белые стрекозы
на чёрных обессилевших цветах,
и белый врач из тёмной сказки детской
с улыбкою мальчишеской и дерзкой
на узких, словно лодочка, губах.
Моя рука во тьме меня разбудит.
Зачем, зачем душа моя забудет,
и в памяти исчезнет без следа,
как снег дрожал, как дерево искрилось?
И лишь — «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась» —
как снегопад посмертно, навсегда.
1983
Возвращение блудного сына
И возвратился блудный сын к отцу,
Припав к нему истерзанною плотью.
Размазывая слёзы по лицу,
Явил свои лохматые лохмотья.
«Мой мальчик, ты вернулся наконец!
Ах, что с тобою сделала разлука!
Какая тебя вымотала мука?» —
«Я Рембрандту позировал, отец».
7 марта 1981
[Из цикла «Бессонница»]
***
…И опять приникаю я к ней ненасытно.
Этой музыки теплая, спелая мякоть.
Когда слушаю Шуберта — плакать не стыдно.
Когда слушаю Моцарта — стыдно не плакать.
В этой сказке, в ее тридевятом моцарстве,
позабыв о своем непробудном мытарстве,
моя бедная мама идет молодою,
и сидят мотыльки у нее на ладони.
Ты куда их несешь, моя бедная мама?
Ты сейчас пропадешь за наплывом тумана.
Эта музыка, словно пыльца мотылька,
упорхнувшего в недостижимые страны.
Твоя ноша для Моцарта слишком легка,
а для прочих она непосильна и странна.
И опять ненасытно я к ней приникаю.
И она приникает ко мне ненасытно.
Остается стакан полутеплого чаю
в полутемном вагоне, где плакать — не стыдно…
1982
***
Душа моя, со мной ли ты ещё?
Спросонок вздрогну — ты ещё со мною.
Как холодно тебе, как горячо
под смертной оболочкою земною!
Ужель была ты некогда верна
иному телу? Милая, как странно,
что ты могла бы жить во времена
какого-нибудь там Веспасиана.
Душа моя, была ли ты — такой?
Не представляю чуждую, иную.
Ко праху всех, оставленных тобой,
тебя я, словно женщину, ревную.
Душа моя, услышишь ли мой зов,
когда я стану тусклой горстью пыли?
Как странно мне, что сотни голосов
с тобой из тьмы посмертной говорили!
И страшно мне — какой ты будешь там,
за той чертой, где мы с тобой простимся,
и вознесешься к белым облакам
иль поплывешь по черным водам Стикса.
И там, где свет клубится или мгла,
родство забудешь горестное наше…
Я не хочу, чтоб ты пережила
меня в раю, в заветной лире — даже.
И как тебя сумел бы воплотить
в безумное и горькое какое
творенье? Твой исход предотвратить
нельзя мне и бессмертною строкою.
Но если нет возвратного пути,
то, уходя к неведомой отчизне,
душа моя, за все меня прости,
что сделал я с тобою в этой жизни.
1985









