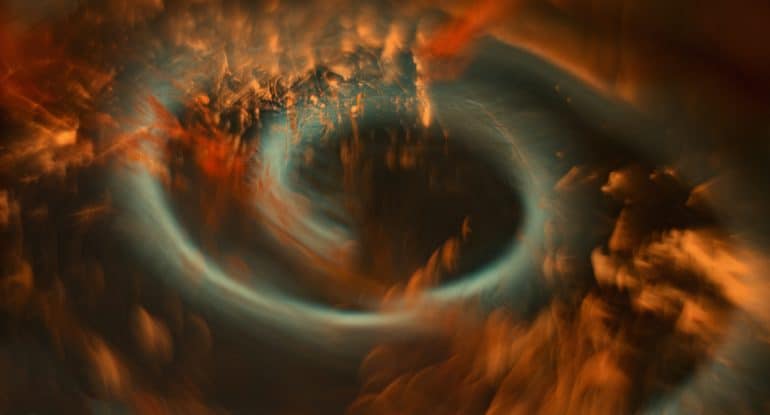Когда у известного писателя выходит новая книга, первое инстинктивное побуждение — сравнить ее с предыдущими. В этом смысле роман Евгения Водолазкина «Брисбен» оказывается непростой задачей. Да, конечно, смысловая преемственность с «Лавром» и «Авиатором» есть (и странно, если бы ее не было — тогда бы автор перестал быть собой), но есть и нечто новое, причем и содержательно, и по способу письма.
Начнем со второго. «Брисбен» — это роман о жизни музыканта, построенный как полифоническое музыкальное произведение. Есть два голоса — нижний и верхний, которые ведут каждый свою партию, постепенно сближаясь. Нижний голос — это рассказанная от третьего лица история жизни талантливого музыканта, гитариста-виртуоза Глеба Яновского, от его раннего детства до зрелости, она охватывает временной диапазон от 1971 до 2000 года. Верхний голос — написанный от первого лица дневник Глеба Яновского, от 2012 до 2014 года. Фрагменты истории перемежаются фрагментами дневника, причем и те, и те — довольно короткие, не больше нескольких страниц, отчего и создается впечатление, будто оба голоса звучат одновременно.
Но одним лишь наличием двух голосов, двух планов повествования полифония романа не исчерпывается. Аккорд — это же не произвольное, а упорядоченное соединение нот. Важно то, какие именно — по сюжету и смысловому наполнению — фрагменты «низов» сочетаются с фрагментами «высот». И оказывается, что сочетание выстроено именно таким образом, что в любой момент повествования главный герой, Глеб, выглядит «стереоскопически», он воспринимается не только в контексте сиюминутно происходящих с ним событий, но и целиком. Вот он маленький мальчик-первоклассник — и вместе с тем мы видим в нем немолодого, много испытавшего и еще больше продумавшего, прочувствовавшего мужчину. Вот он сильный, уверенный человек на вершине успеха — и вместе с тем нервный, ранимый подросток. Получается нечто вроде голографического эффекта, когда каждый кусочек голограммы содержит все изображение.
Кстати, про полифонию в романе говорится открытым текстом (давая тем самым ключ к правильному прочтению «Брисбена»). Когда Глеб учится на филфаке Ленинградского университета, то именно полифонию (в филологическом ее понимании) делает темой своей дипломной работы. «Глеб видел полифонию не только в параллельных голосах героев, но и в противопоставленных сюжетах, в разновременных линиях повествования, точка соединения которых может находиться как в тексте произведения, так и вне его — в голове читателя».

Вообще, роман выстроен очень тонко — я имею в виду не только полифонию как таковую, но и, например, стилистический контраст между обоими голосами. Нижний голос можно назвать «напевным» — события из детства, отрочества и юности Глеба рассказаны взрослым языком, лиричным и ироничным одновременно. Здесь подача идет не от героя, а от некого рассказчика (которого не стоит отождествлять с автором — рассказчик тоже герой... и может, даже не безымянный... может, это не кто иной, как писатель Нестор, по сюжету ставший биографом и другом Глеба Яновского). Верхний же голос, то есть поданный от первого лица дневник Глеба, выполнен в иной манере — более простой, без стилистических изысков, но и более открытой, исповедальной, можно сказать. Сочетание этих двух разных (хотя и не диаметрально противоположных) стилистик тоже работает на голографический эффект.
И это уж не говоря о множестве возникающих в тексте метафор, смысл которых проясняется только после того, как перевернута последняя страница. Например, сцена ближе к финалу, где Глеб и девочка Вера, по сути, ставшая ему дочерью, совместно выступают на концерте. Они идут к сцене: «...Вера идет, держа меня за руку, — в полной темноте. Боится ее выпустить. И я боюсь: если мы разожмем руки, нам уже не найти друг друга. Меня охватывает ледяной страх, он уже давно сковал Катю (жену Глеба — прим. В.К.). Страх, что рука этой девочки выскользнет из наших рук, и Вера, одинокая, отправится во тьму. / Передо мной возникает фигура: вы остаетесь здесь. Прижимаю к себе Веру и целую ее: всё будет хорошо. Остановивший меня берет Веру за руку: а мы пойдем дальше».
Не буду уж перечислять всяческие смысловые переклички в тексте, содержательные рифмы — иначе пришлось бы писать статью, по размерам сопоставимую с романом Водолазкина.
Но я, кажется, слишком увлекся разговором о том, как это написано. Пора перейти к тому, что написано.
Итак, перед нами история родившегося в Киеве в 1964 году гитариста Глеба Яновского. Мы видим, как он взрослеет, как открывает для себя жизнь в самых разных ее проявлениях, совершает свойственные возрасту ошибки, влюбляется, ревнует, обижается, прощает, переживает метафизический ужас от осознания своей и общей смертности, в старших классах школы вполне осознанно принимает крещение и воцерковляется (напомню, дело происходит в СССР в 1979 году). И параллельно с этим — совершенствуется в музыке, даже лучше сказать, музыка становится частью его жизни. Возможно, даже главной. Потом он поступает на филфаг ЛГУ, влюбляется в немецкую студентку Катарину, которая вскоре станет его женой, в начале 90-х перебирается с ней в Германию, где поначалу им приходится очень трудно, но потихоньку жизнь налаживается, а потом и вообще происходит «вертикальный взлет» — Глеб становится виртуозом, мировой знаменитостью.

А потом — страшное. Болезнь Паркинсона, из-за которой он постепенно утрачивает возможность выступать, а в перспективе окажется развалиной, неспособной самостоятельно вытереть слюни. Болезнь ввергает Глеба в депрессию, подталкивает к поступкам, о которых потом приходится горько жалеть — но вместе с тем она ставит перед ним самый главный вопрос: а в чем смысл моей жизни? Что в ней останется, если вычесть возможность создавать музыку? Если даже в быту я стану беспомощным?
Нельзя сказать, что Глеб легко и изящно находит ответ на этот вопрос. Собственно, прямого, четкого, ясно сформулированного ответа в тексте романа мы не найдем. Но косвенный — все же есть. И связан он с темой, крайне важной для Евгения Водолазкина как мыслителя: с условностью понятия времени. Времени на самом деле не существует, говорит Водолазкин еще в «Лавре» и продолжает в «Авиаторе». В «Брисбене» эта мысль звучит еще более определенно. Все, что с нами происходит, уже случилось. Все, что мы воспринимаем как последовательность событий, на самом деле есть некое сейчас, только не наше человеческое сейчас, а сейчас Бога. Иными словами, Вечность. Поэтому именно с Вечностью и следует соотносить каждое событие нашей жизни.
Есть в романе сцена, когда еще задолго до своей болезни Глеб переживает схожую драму — из-за перелома пальца рука его потеряла прежнюю подвижность, прогнозы медиков туманны, и вот в состоянии такого внутреннего раздрая он навещает в Киеве своего деда Мефодия (который огромную роль сыграл в его жизни и которого он воспринимает как духовного наставника). Мефодий говорит Глебу: будущее у человека отнять легко, потому что будущее — это всего лишь наши страхи и мечты, наши предположения. Труднее отнять настоящее, потому что оно действительно существует, оно — не иллюзия. Еще труднее отнять прошлое, потому что оно неизменно. И совсем невозможно отнять вечность, потому что вечность — у Бога. Поэтому не горюй, что у тебя нет будущего. То, чего, как тебе кажется, ты лишаешься в будущем, ты найдешь в настоящем и в прошлом, но главное — в вечности.
А еще спасение для Глеба в том, чтобы выйти за пределы своего «эго», начать жить ради другого. И этим другим — вернее, другой, оказывается смертельно больная девочка Вера, дочь его первой любви, одноклассницы по музыкальной школе. На фоне борьбы за ее жизнь собственная болезнь для Глеба не то чтобы меркнет, но перестает быть доминантой жизни. Точнее сказать, сама его жизнь с появлением Веры трансформируется, становится чем-то бОльшим, нежели изначально.

И вот тут мы подходим к главной, как мне кажется, мысли романа. Но чтобы ее прояснить, придется сделать важное отступление. Понятно, что музыка и ее осмысление — в «Брисбене» нечто большее, чем просто декорации, на фоне которых разворачивается сюжет. Глеб (и не только он) много размышляет о сути музыки, и я бы выделил тут три идеи.
Во-первых, музыкальное произведение может существовать только если оно всякий раз как бы рождается снова, при каждом новом исполнении. Простого воспроизводства звучания нот здесь недостаточно. Исполнитель должен всякий раз открывать для себя эту музыку, играть ее так, будто она исполняется впервые. То есть он наполняет ее своей собственной духовной энергией, иначе ничего не получится, иначе — только мертвая копия.
Во-вторых, музыкальное произведение — это лишь некое земное, частичное воплощение того, что рождено свыше. У каждого музыкального произведения есть некий оригинал, который — нечто большее, чем просто совокупность нот, созданная композитором. Композитор тут не только творец, но и локатор, улавливающий некие идеи, образы, чувства из высших сфер. Можно домыслить, что ангельских, умопостигаемых — в романе это напрямую не сказано, но такая трактовка ничему там не противоречит. Именно поэтому не может быть двух абсолютно идентичных исполнений одной и той же музыки. Музыкант не только внесет что-то от себя, но и по-разному воспримет (своей душой — не ушами же!) этот небесный прототип.
И, наконец, третье — и самое важное! — музыка не есть отражение жизни. Она — ее продолжение, ее расширение, вывод ее (понимаемой как некая обыденность) в иные измерения. Это не зеркало (вернее, не только зеркало), но (если вообще допустима такая аналогия) роутер, соединяющий обыденность с иными, более высокими планами бытия.

А теперь переходим от философско-лирического отступления к основной мысли. Основная мысль — естественно, в моем читательском восприятии — заключается в том, что жизнь главного героя «Брисбена», Глеба Яновского, и есть музыка. И потому к ней применимы все те три утверждения, что выше я перечислил.
Во-первых, Глеб в каждый конкретный момент своей жизни как будто снова рождается. Точнее сказать, его мысли и поступки не стопроцентно детерминированы его прошлым. Он всегда свободен, если понимать свободу по-христиански, как дар Божий, как возможность поступить непредсказуемо, выйти за пределы того, что буддисты назвали бы кармой. Даже когда, казалось бы, от человека вообще ничего не зависит, у него все равно остается возможность по-разному воспринимать и оценивать то, что с ним происходит.
Во-вторых, в рамках этой аналогии «небесный прототип музыки» — это Божий замысел о человеке. То, к чему человек призван. То, чем он может стать, если, конечно, поймет и очень захочет. Понятно, что у каждого (не исключая, быть может, и святых) существует зазор между этим замыслом и тем, что на самом деле получилось. Есть этот зазор и у Глеба, но все же — повторю, на мой читательский взгляд! — он к этому замыслу достаточно близок.
И в-третьих, получаем парадокс. Жизнь Глеба (раз уж она — музыка) это не отражение, а продолжение жизни. Продолжение той эмпирики, того потока связанных друг с другом бытовых обстоятельств, который чаще всего мы и понимаем под жизнью. Но настоящая жизнь вовсе не сводится к этому поверхностному уровню. Более того, поверхностный уровень преобразуется благодаря тому, что снисходит свыше. Если развивать аналогию с роутером, скачанные из интернета программы, будучи запущены на локальном компьютере, обновляют его операционную систему. Наш локальный компьютер, таким образом, это не что-то действительно самодостаточное, а элемент сети. Если от компьютерных аналогий перейти к богословским, то благодать Божия, подаваемая в ответ на искреннюю просьбу человека, преображает и возвышает его душу.
Вот и получается, что жизнь (взятая в одном ее понимании) становится расширением и продолжением жизни (в другом, более обыденном понимании). То, что происходит с Глебом, то есть тяжелая болезнь, ставящая крест на его музыкальной карьере, конечно же, ужасно. Тем не менее, и такой поворот способен стать не концом всего и вся, а началом нового, не менее важного этапа. Как сказал ему в свое время дед Мефодий (в переводе с украинского на русский): «Волнуюсь не за пальцы твои, а за бессмертную душу». Пальцы, карьера, слава — это все поверхностный уровень, бессмертная душа — вот что главное. Вот то, что непосредственно соприкасается с Богом. И трагедия Глеба, если смотреть на нее под таким углом, становится уже не трагедией, а возможностью приблизиться к Богу.

Но, как мы знаем, полное соединение с Богом в этой, земной жизни невозможно. Чтобы родиться для жизни вечной, из земной жизни нужно уйти. То есть умереть. И тема смерти — стержневая тема «Брисбена». Собственно, что такое этот Брисбен, давший название роману? По сюжету — город в Австралии, куда уезжает мать Глеба. Кстати, реально существующий город. Но по сути, Брисбен в романе — аллюзия рая. На это есть много намеков, но самый мощный, самый убедительный — в финале, в посткриптуме, где оказывается, что мать Глеба, собиравшаяся лететь в Брисбен, так и не доехала до аэропорта, став жертвой грабителей. А вместе с тем — в тексте есть несколько мест, где и мать звонит Глебу из Брисбена, и он звонит ей.
Как это понимать? Как игру Глеба с самим собой, как попытку отгородиться от печальной правды? Так себе версия — учитывая, что в том же посткриптуме говорится о его неоднократных попытках с помощью детективных агентств расследовать исчезновение матери. Не лучше ли предположить, что в художественном пространстве романа действительно есть некий Брисбен, только не земной, а небесный Брисбен, с которым у Глеба имеется мистическая связь. То есть он и знает, что матери его нет в живых, и отказывается признать, то она мертва. Она не мертва — потому что она жива, просто не в нашем плане бытия. Точно так же, как и жива утонувшая девушка Арина, являющаяся 14-летнему Глебу во сне, и живы пан Антон Поляковский с дореволюционным министром путей сообщения Клавдием Семеновичем Немешаевым. Тоже ведь Глеб эту парочку иногда видит.
Мне кажется, вот это проникновение мертвых в мир живых играет в «Брисбене» ту же роль, что и пластиковая бутылка в «Лавре», вызвавшая в свое время ожесточенную критику. Но там она была нужна Водолазкину, чтобы намекнуть на условность времени, а здесь, в «Брисбене», это намек на то, что жизнь не исчерпывается обыденностью, что жизнь вечная — это не где-то там, за семью печатями, что вечность может входить и в нашу реальность.
Но если понимать смерть как переход с одного плана бытия на другой (а собственно, именно так ее и следует понимать, если мы действительно христиане), то лейтмотивом романа оказывается многократно повторенная в нем фраза душевнобольного немца Франца-Петера: «Жизнь — это долгое привыкание к смерти». Если вникнуть в нее всерьез, безотносительно особенностей самого Франца-Петера, то она оказывается не такой уж банальной. Банальной была бы, если заменить «привыкание» «подготовкой». Тогда — да, азбучная истина христианской аскетики. Надо воспитывать свою душу так, чтобы после смерти в ней нашлось место для Бога. Всё верно. Но привыкание — нечто более глубокое. Это расширение горизонта, это обретение способности воспринимать (не органами чувств, а непосредственно, душой) иные планы бытия... да вот тот самый Брисбен, откуда мама может позвонить и куда можно позвонить ей.
Все это я говорю к тому, что продолжение жизни — то самое, что происходит с Глебом, относится сразу и к времени, и к вечности. Нет никакой непреложной границы между жизнью здешней и тамошней, она всюду — жизнь, с болью, нежностью, красотой, страхом, заботой, надеждой. Это всё та же музыка, которая всегда больше себя самой. Музыка, которая будет вечной.