Чем отличается наша эпоха от Средневековья? Как изменилось отношение общества к миру и к Богу? Чему удивился бы герой романа Арсений, попав в наше время? Обо всем этом мы беседуем с Евгением Германовичем.

Писатель
Родился в 1964 году в Киеве, окончил Киевский государственный университет (филологический факультет). В 1986 году поступил в аспирантуру Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), где и работает до сих пор в отделе древнерусской литературы. Доктор филологических наук. Автор романов «Соловьев и Ларионов» (2009 год) и «Лавр» (2013 год). Женат. Живет в Санкт-Петербурге.
Взгляд сквозь вечность
Вы как ученый специализируетесь на русском Средневековье, причем, поскольку Вы филолог, то в большей степени не на том, что люди делали, а на том, как они думали. Отсюда вопрос: когда современный человек пытается понять мышление людей Средневековья, то чего он чаще всего не учитывает, не осознает?
Многого он не понимает. Прежде всего — теоцентричности того времени. Средневековье (и русское, и европейское) — это эпоха, когда в центре человеческой жизни стоит Бог. Для нашего секуляризированного общества это совершенно непонятная вещь. Отсюда и непонимание неких стержневых моментов Средневековья.
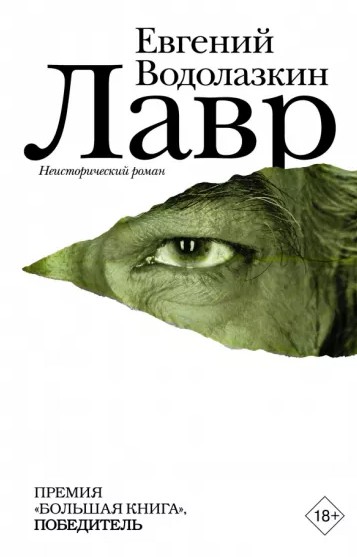
Пятнадцатый век, Русский Север. Арсений живет не совсем своей жизнью — он живет вместо своей любимой женщины, в смерти которой винит себя, и своим подвижничеством пытается спасти ее душу. Гениальный врач, юродивый, паломник, монах, пустынник — этапы его жизни, а лучше сказать, жития, смысловой центр которого — любовь и верность, честность перед собой и Богом. Об этом — роман Евгения Водолазкина «Лавр», получивший в 2013 году премию «Большая книга».
Ну, например, что стояло в центре средневековой жизни, культуры? Монастырь! Современному человеку это понять сложно. Сейчас монастырь воспринимается как некое маргинальное явление. Уйти в монастырь — это все равно что уйти в инобытие. Либо к монастырю относятся как к музею-заповеднику. А тогда монастырь был центром мира. В монастыре писались самые главные тексты, влияющие на все дальнейшее развитие цивилизации, монастыри влияли на политическую жизнь, особенно на Западе. И даже если мы возьмем обыденную сферу жизни, то очень многие предметы быта возникли именно в монастырях. К примеру, самые знаменитые сорта пива, ликеров. Монастырь и в социальном отношении был слепком мирского общества — туда ведь уходили люди из всех его слоев, в том числе и из тех, какие сейчас бы мы назвали политической элитой.
Другая особенность средневекового мышления, плохо осознаваемая сейчас, — это совершенно другое восприятие времени. Оно было в гораздо меньшей степени насыщено событиями, но в гораздо большей — метафизическими смыслами. Большую часть Средневековья даже часов не было в массовом употреблении, и не в силу технологической отсталости, а просто потому что потребности не ощущалось. Более того, средневековому человеку был свойственен взгляд на время, так сказать, сквозь вечность. По-латыни это звучит как sub specie aeternitatis — с точки зрения вечности. Поэтому обыденное время, повседневное отчасти размывалось таким подходом.
В чем же это выражалось? Что значит «обыденное время размывалось»?
Выражалось, например, в том, что люди совершенно не пытались экономить время, как делаем это мы сейчас. Они не торопились. Я уже говорил про теоцентричность мировосприятия, так вот, в обыденной жизни она выражалась и в том, что люди тратили множество времени на молитву. Речь именно об обыденной мирской жизни, тем более это касалось монастырей. Жизнь в монастыре, с точки зрения его насельников, вообще происходила вне времени. Точнее сказать, вне привычного нам линейного времени. Время там двигалось по кругу — суточный богослужебный круг, недельный, годовой, — и сквозь эти круги люди соприкасались с вечностью.
А еще чем тогдашние люди отличались от нас?
Мы сейчас живем в ситуации, когда сразу хотим очень многого, это культивируется, списки желаемого все время расширяются. В Средневековье же было гораздо меньше желаний и гораздо меньше искушений. Но если уж человек чего-то желал, то добивался этого с гораздо большей энергией, чем делаем это мы, потому что желания были выстраданными, настоящими. Можно сказать, что тогдашние люди были более цельными натурами.
Другое отличие более сложно, и связано оно с восприятием личности. В средневековом обществе меньше, чем сейчас, было выражено персональное начало. Как известно, средневековые тексты были преимущественно анонимными, и это неслучайно. Лихачев в свое время очень хорошо сформулировал: в Средневековье каждый пишущий выражал коллективную точку зрения, коллективный опыт. И вот именно за счет своей общности такой опыт, такие идеалы были очень мощными. Можно сказать, что человек Средневековья в какие-то моменты своей жизни становился как бы аккумулятором общественной энергии. Каждый человек подобен капле, в которой отражается мир. Сейчас каждая капля отражает что-то свое, индивидуальное, тогда же каждая капля была строгим отражением общего для всех мира — с его идеалами, его проблемами, его страхами и надеждами.
Но вот что парадоксально: в то время меньше было персонального начала, но больше личностного. Можно сказать так: средневековый человек, становясь аккумулятором общественной энергии, не растворялся в толпе, он оставался самим собой, со своей единственной, неповторимой душой. И это видно по древним текстам: они вовсе не под копирку написаны и могут очень различаться по своей интонации.
Неисторический роман
Ваш роман «Лавр» многие люди начали читать, думая, что перед ними исторический роман, и остались в недоумении. Как Вы думаете, в чем их ошибка?
Сразу же скажу — «Лавр», разумеется, не относится к жанру исторической романистики. Что вообще такое историческая романистика? Как правило, это художественные тексты о прошлом, где в фокусе авторского интереса находится эпоха, а не люди. Такие романы пишутся для того, чтобы показать жизнь той или иной эпохи, присущие ей достижения, противоречия, трагедии. Герои же, их судьбы, их внутренний мир вторичны, они нужны лишь для того, чтобы через их столкновения изобразить то время. По сути, время — это главный герой практически любого исторического романа.
Признаюсь, я не особо люблю исторические романы. Возможно, по той же причине, по какой не люблю костюмированного театра, мне ближе условный — где вместо декораций просто таблички «Лес», «Река» (как это, кстати, было во времена Шекспира). То есть за стремлением авторов показать колорит эпохи теряется человек. Кроме того, мне не нравится, когда автор рассказывает мне, как было дело. Человек пару недель изучал материал — и начинает представлять свою версию происходящего. Но если мне интересна та эпоха, я лучше почитаю первоисточники и научные труды.
Поэтому первоначально я вообще не собирался писать о Средневековье. Я слишком профессионально им занимаюсь как ученый, я слишком много о нем знаю, чтобы писать художественный текст. Звучит, наверное, парадоксально, но это правда. Когда ты слишком глубоко погружен в материал, то рискуешь за деревьями не увидеть леса, запутаться в частностях.
Но тем не менее построили роман на средневековом материале?
Да. Но не потому, что захотел писать исторический роман. Дело вот в чем: я решил написать о тех вещах, о которых в наше время говорить как-то не принято, которые сейчас автоматически ассоциируются с банальностью или пафосом. Я говорю о милосердии, преданности, вечной любви. Мне захотелось вернуть их в общественный оборот, и я понял, что самым лучшим материалом для них будет Средневековье, когда говорить о них еще не стеснялись. В какой-то момент я осознал, что придется писать о Древней Руси. Но как писать? Вот это был самый главный вопрос. Мне пришлось сознательно отбросить все, что я знаю о той эпохе, и поэтому то Средневековье, какое у меня в романе, можно назвать условным Средневековьем. Я не строил ярких декораций, которые отвлекли бы на себя читательское внимание от главного.
А что главное? Можете ли предельно кратко сформулировать, о чем роман?
Если предельно кратко — то роман о том, что времени нет, что всё существует в вечностном измерении, что все события существуют вне времени. Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил: «время дано нам по нашей слабости» — или, если угодно, чтобы как-то распределить события в нашем сознании, потому что иначе бы у нас все мозги перегорели.
Именно с этим связаны те моменты, которые многих читателей раздражают. Они нацелились на чтение добротной исторической прозы, а тут мой герой Арсений, живущий в XV веке, видит в лесу пластиковые бутылки, а в пламени печки — самого себя же в старости, а другой герой, Амброджо, наделен даром видеть картинки будущего. Все это, судя по некоторым отзывам, воспринимается как постмодернизм. Но то, что кажется в «Лавре» приемами постмодернизма, на самом деле отражает средневековую поэтику, которая (я в этом убежден) сейчас в целом ряде пунктов пересекается с постмодернизмом. А в содержательном плане — это роман о святости, о любви, которая сильнее смерти, о Промысле Божием. Кстати, даже на обложке написано, что это не исторический роман.
Распалась связь времен
В свое время у нас исторические романы были крайне популярны. Сейчас они уже не вызывают такого интереса. Как думаете, почему?
Популярны они были в позднесоветскую эпоху. Тогда вообще были популярны любые жанры, которые выводили из советского времени. Исторические романы уводили в прошлое, научная фантастика, как правило, в будущее, книги о путешествиях — в те страны, где шансов побывать ни у кого не было.
Интереса к историческим романам сейчас нет, а вообще какое-то историческое мышление есть? Можно ли сказать, что распалась связь времен?
С историческим мышлением происходит точно то же, что и с грамматическим мышлением. Уровень, конечно, резко понизился. Возможно, это объясняется еще и тем, что максимальный интерес к истории возникает в те времена, когда кажется, будто она окончилась, будто ничего интересного уже не происходит и не произойдет. Так казалось на закате брежневской эпохи, но вскоре все изменилось, начались катаклизмы, история, что называется, поперла из всех щелей — и происходящее сейчас оказалось гораздо интереснее, чем события времен Петра Первого или Ганнибала.
В первую очередь это касается молодежи. Не то чтобы я так уж хорошо был с нею знаком, но все же иногда читаю лекции и по вопросам и ответам могу делать какие-то заключения. То ли благодаря Интернету, то ли еще чему, но они, как мне кажется, живут в некой реальности, где особого места для истории нет. Нет его, впрочем, и для литературы — читают они очень мало. В основном читают друг друга, то есть записи в социальных сетях.
Что касается их восприятия истории, то она для них уплощается. То есть, допустим, Гражданская война в США, войны Александра Македонского, татаро-монгольское иго — это явления одного порядка.
У меня в свое время был в литературной студии тринадцатилетний ученик, который сказал так: «История — это то, что было давно. Цари… пионеры… динозавры».
Вот именно! И отсутствие глубины времени в сознании человека — это очень плохой признак. Плохой, потому что жить только настоящим невозможно, настоящее слишком крепко сцеплено с прошлым. Кстати, приведу такой пример. В 1990-е годы мы с женой несколько лет прожили в Мюнхене, и наша дочь училась в немецкой гимназии. Я порой ходил туда на родительские собрания, и как-то один родитель высказал учителю истории претензию: почему, дескать, целых шесть часов выделено на изучение каменного века? Давайте лучше вы сперва детям все про современность расскажете, и только потом уже, если останется время, про этот ваш каменный век. Учительница, не моргнув глазом, ответила: «Понимаете, если бы мы шли от современности к каменному веку, пришлось бы всякий раз слишком многое объяснять, потому что одни события проистекают из других».
Так вот, если человек не знает истории, не интересуется историей, то он не понимает причин происходящего сейчас, не видит закономерностей в политике, в экономике, в культуре. А раз он всего этого не видит, то становится беззащитен, им очень легко манипулировать.
Между прочим, проблема эта актуальна не только для светского общества, но и для церковных людей. Отсутствие исторического мышления часто оборачивается верой в те или иные мифы. Например, когда Синодальный период жизни нашей Церкви воспринимается как идеал, как образец для подражания, как золотой век (либо, наоборот, как время беспросветного мрака). То же можно сказать и о любом другом периоде.
Поэт в России больше, чем меньше
Вот есть известная фраза Евгения Евтушенко «Поэт в России больше, чем поэт». Как Вы думаете, это осталось в прошлом, или и сейчас российские литераторы формируют состояние умов?
Я думаю, что ситуация, описанная этой фразой, существует циклически. Бывают времена, когда она верна, когда от писателя, от поэта общество ждет каких-то наставлений, какой-то нравственной проповеди. Но бывает и так (особенно во время общественных катаклизмов), что литература перестает быть интересной обществу. Состояние умов определяется в такие периоды не художественной литературой, а публицистикой.
В принципе, Россия всегда была литературоцентричной страной, слово у нас заменяло многое. Подчас, к сожалению, и дело. Если же говорить о временах неотдаленных, то несложно видеть, что после бурного всплеска 1990-х годов интерес к литературе упал. Упал он примерно во второй половине 90-х и был низким первые десять лет XXI века. Сейчас этот интерес потихоньку возрастает. Может быть, оттого, что все наелись действительности в ее непосредственном проявлении, прочитали всё, чего не читали ранее. Этот интерес к литературе проявляется, кстати сказать, не только в интересе к конкретным произведениям. Например, кого еще десять лет назад волновала позиция писателей по тем или иным острым вопросам современности? Сейчас интересует. Неслучайно проходят какие-то мероприятия, акции — вроде прошлогоднего Литературного собрания, вроде объявления 2015 года Годом литературы.
Но надо понимать, что это не продлится вечно. В какой-то момент интерес к литературе вновь ослабнет. Однако сейчас мы находимся в той фазе цикла, когда он растет. Кстати сказать, это не только российское явление. Я довольно много езжу по загранице и вижу, что там за последние двадцать лет возникло просто огромное количество литературных фестивалей.
Однако интерес интересу рознь. Отношение к литературе на Западе в силу того, как там сложилась история, сильно отличается от нашего. То, что подразумевал Евтушенко в своей фразе, то есть то, что литература у нас взяла на себя учительские, пророческие функции, характерно именно для нашей страны. Причем это было и в дореволюционное время, и в советское, особенно начиная с 60-х годов, когда советская власть уже стала относительно вегетарианской.
Другой вопрос, как к этому относиться. Можно восторгаться тем, что поэт у нас больше, чем поэт, а можно задуматься о причинах. Ведь если литератор становится проповедником, учителем, правозащитником — это значит, что не работают какие-то социальные механизмы, забиты какие-то каналы. По этой причине иногда литература захватывает в обществе очень большую власть (не в юридическом смысле, а власть над умами). Но большая власть предполагает и большую ответственность. А вот с этим все уже сложнее.
Защита от смерти
Евгений Германович, а как Вы пришли к вере? Это следование семейной традиции или Ваш личный выбор?
Мой личный выбор. Можно сказать, у меня типичная советская история. В моей семье в XIX веке и в начале XX были священники, была духовная традиция, но она оборвалась, и мои родители были совершенно неверующими. Пламенными атеистами их назвать нельзя, но религия никаким краем не затрагивала их жизнь. Естественно, меня они в младенчестве не крестили.
Крестился я в шестнадцать лет, и началось все с того, что я осознал свою смертность. Осознал не в том смысле, что раньше вообще не подозревал о том, что люди умирают. Конечно же я, как и все, еще в раннем детстве об этом знал. Но ребенок до определенного возраста не относится к смерти серьезно, не задумывается о ней применительно к себе. Смерть — это где-то там, далеко, это с кем-то другим… А вот когда начинается подростковый возраст, начинается физическое созревание, когда ребенок, так сказать, перестает быть ангелом… вот тогда мысли о смерти выходят на новый уровень. В каком-то смысле каждый человек повторяет путь Адама: тот ведь становится смертным после грехопадения, так и подросток в 14-16 лет, утратив детскую невинность, осознаёт, что ему — не кому-то там, а именно ему! — предстоит умереть.
Из этого факта можно сделать разные выводы. Кто-то, например, решает, что раз уж когда-нибудь придется умирать, то нужно успеть получить максимум удовольствий за отпущенный мне срок. А кто-то ужасается: если я смертен, то зачем тогда всё, что я делаю? Это как раз мой случай. Это потрясло меня до глубины души. Зачем мне всё, если я уйду, стану травой, деревьями?
Единственным ответом стала для меня вера. Причем, что интересно, верить «во что-то» я начал значительно раньше, чем задумался о тщете бытия. Но это была именно что вера «во что-то», некое персональное язычество. В каких-то напряженных жизненных ситуациях я просил о помощи у чего-то… у чего-то такого, что сам не понимал. И тут, кстати, можно вспомнить, что человек в своем развитии повторяет путь человечества. Вот как большинство европейских народов перешли от язычества к христианству, так и у меня в шестнадцать лет совершился этот переход.
Сам собой совершился? Или кто-то помог?
Помог мой двоюродный брат, который крестился за несколько лет до этого. Помог не только на уровне разговоров, но и нашел священника, который крестил меня тайно, без записи в церковные регистрационные книги. Ведь мне предстояло поступать в университет, а эти церковные книги контролировались известными органами, и юношу, крестившегося в сознательном возрасте, конечно, в университет бы не взяли. История, в общем, характерная для того времени, того социума.
А что произошло после крещения? Воцерковление началось сразу же или спустя годы, как это нередко бывало?
Сразу же. Я стал ходить в церковь — тайно, конечно, никому об этом не говоря. Отец Петр, крестивший меня, стал давать мне религиозные книги, давали мне книги и товарищи моего брата, я довольно много тогда прочел.
Легко ли удавалось сохранять тайну?
Расскажу случай, который произошел со мной на первом курсе, в 1981 году. Нам преподавали научный атеизм, и преподаватель на одном из семинаров начал поднимать всех в аудитории и задавать вопрос: «Вы верите в Бога или нет?» Я сижу, и мне страшно, потому что если отвечу, что не верую, то отрекусь от Христа. Вспомните евангельское: а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным (Мф 10:33). А признаться, что верую, — запросто вылечу из университета, я знал такие случаи. И вот я сижу — и не могу понять, что отвечу, когда очередь дойдет до меня. Встает один человек, другой, третий… и вот уже следующим должен быть я. Но тут в дверь просовывается чья-то голова, говорит преподавателю: «Вас срочно вызывают в деканат». Преподаватель убегает и до конца занятия уже не возвращается.
Я и тогда понимал, и тем более сейчас понимаю, что все случившееся было явным действием Божиим. Господь меня спас, причем не потому что я такой хороший, а наоборот — понимая, что я слаб, что не готов к мученичеству, что такой крест мне пока что не по плечу. Заодно Он дал мне возможность трезво взглянуть на себя.
А как сдавали экзамен по научному атеизму?
Меня тогда этот вопрос мучил. Как мне отвечать? Отрицая свою веру? И тогда умные люди посоветовали мне использовать безличную интонацию: «Теория научного атеизма гласит то, что…», «в работе Владимира Ильича Ленина “Социализм и религия” говорится, что…» — и всё в таком духе. Но самое интересное, что даже это мне не потребовалось — преподавателя более всего волновало, есть ли у студента конспект. Конспект у меня был, и потому меня отпустили, не особо расспрашивая.
Вы работаете в Пушкинском Доме, в отделе древнерусской литературы, которым до конца своих дней заведовал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он, насколько я знаю, Вас туда пригласил, он стал для Вас неформальным учителем — и в науке, и в жизни. Чему Вы у него научились? Можете выделить самое главное?
Если говорить о том, чему я у него научился в человеческом отношении, то прежде всего это независимость. Дмитрий Сергеевич был независимым человеком, причем не только от властей (а мы помним, каковы были эти власти, сколь опасно было с ними не соглашаться), но и от единомышленников. А ведь в жизни это бывает посложнее, чем не зависеть от прямых оппонентов. Часто бывает так, что ты вписываешься в какую-то роль, и от тебя ждут каких-то соответствующих поступков, соответствующих высказываний — а эти поступки или высказывания кажутся тебе по тем или иным причинам неуместными. На мой взгляд, наивысшее мужество заключается в том, чтобы быть способным поступать не так, как ожидают твои друзья, твои единомышленники. Зависимым надо быть не от них, а только от истины, от твоего понимания сути вещей.
Дмитрий Сергеевич умел быть «вне схватки». Не «над схваткой» (есть в этом что-то снобистское), а именно что вне ее, и поэтому всякий раз действовал в согласии со своей совестью. Это требовало независимости ото всех — и от противников, и от сторонников.
Не думать о запросе
Ваш роман «Лавр» — христианский. Я имею в виду, что христианская проблематика там стоит на первом месте. Но много ли сейчас в нашей русской литературе таких текстов? Не кажется ли Вам, что ни большинство писателей, ни общество в целом этим не интересуются?
Я бы не сказал, что христианских романов у нас совсем уж нет, что мой — исключение. Вспомним несколько книг Майи Кучерской, вспомним «Даниэля Штайна» Людмилы Улицкой, вспомним Алексея Варламова, чей роман «Мысленный волк» я выдвинул на премию «Национальный бестселлер», вспомним романы Антона Понизовского «Обращение в слух», Дмитрия Данилова «Горизонтальное положение».
Но в целом, соглашусь, таких книг мало. Причина простейшая: мы живем в секуляризированном мире, христианство не определяет мышление и целеполагание большинства людей. Поэтому, что называется, отсутствует социальный заказ на христианскую прозу. И, может быть, пусть уж лучше таких книг будет относительно немного, но они будут хорошими, чем всё заполонят низкопробные тексты, которые проедают мозги и скорее отвращают людей от Церкви, чем привлекают к ней.
Но ведь настоящий писатель пишет не потому, что старается удовлетворить чьи-то запросы, — он пишет, потому что ему интересно это писать, писать о том, что считает важным и хорошим, он пытается достучаться до общества. И иногда получается — как это вышло с «Лавром». Я ведь когда писал его, понятия не имел, что получу какие-то премии. Более того, я был уверен, что книга окажется интересной лишь нескольким моим друзьям. Оказалось, я недооценил своих соотечественников.
И последний вопрос, можно сказать, фантастический. Представьте себе, что герой Вашего романа, Арсений, оказался в нашем времени. Что бы его более всего удивило в мышлении наших людей?
Думаю, его потрясла бы фраза «Это твои проблемы». В Средневековье далеко не все были альтруистами, но не было апологии эгоизма. В Средневековье грешили, но там невозможно было представить оправдание греха. Грешники прекрасно знали, что они грешники. Арсений не понял бы нашу теплохладность. В Средневековье было горение — иногда избыточное, иногда страшноватое, но горение. А мы сейчас — тлеем.
Беседовал Виталий Каплан. Материал проиллюстрирован миниатюрами из Радзивилловской летописи (XIII в.)













