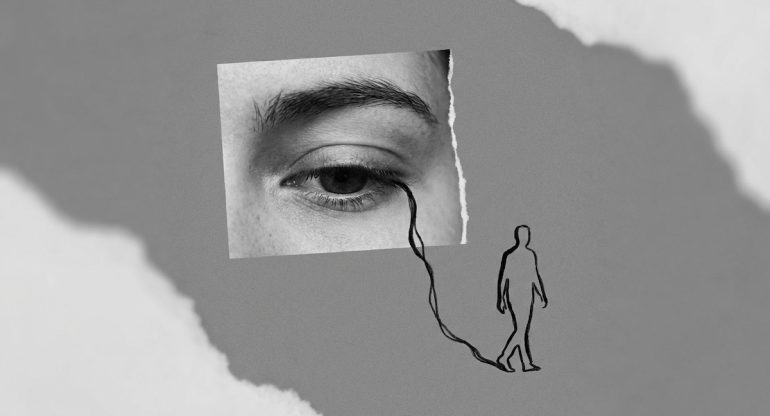Евгений Абдуллаев (псевдоним - Сухбат Афлатуни) — писатель, историк, литературный критик.
Диавол и Ад беседуют друг с другом. Диавол рассказывает, как пытался навредить Христу, и как это ему все время не удавалось.
«…Я отправился в Вифанию и, полагая, что огорчу Его, похитил друга его Лазаря и привел того к тебе, брат мой Ад. И был беспечален, думая, что уже теперь не сможет его у тебя похитить. Но четыре дня спустя пришел Он, не знаю, откуда, когда ты — не ведаю я — то ли спал, то ли других стерег, и вывел от тебя Лазаря».
Ад начинает оправдываться: мол, не виноват. Все с Лазарем сделал, как надо. «Я тогда сгноил тело Лазаря зело, так что оно начало смердеть и стали распадаться суставы его. Но когда Он воззвал: “Лазарь, выйди вон!” — тот тотчас выскочил из гроба, как лев, из логова идущий на охоту, как орел летящий; всю немощь отложив во мгновение ока».
Это отрывок из славянского апокрифического «Сошествия Иоанна Крестителя во ад».
Апокриф, конечно, текст художественный; но главное здесь отражено точно. Победа над смертью. Над телесным распадом, над тленьем, небытием, адом.
Почему все же Лазарь?
Ведь речь пойдет сейчас о последнем, шестом, воскресенье Великого поста, о Входе в Иерусалим. Воскрешение Лазаря вспоминается Церковью в предыдущий день, Лазареву субботу.
Да, главное Лицо последнего великопостного воскресенья — Сам Господь. Он, собственно, главное Лицо всех великопостных воскресений, всего Великого поста, вообще — всего. Но если говорить о людях, о тех святых, связанных с чередой этих воскресений явно (как Иоанн Лествичник или Мария Египетская) или косвенно (как Феодора или Елена), то во Входе в Иерусалим это, безусловно, Лазарь.
Именно поглядеть на воскрешенного Лазаря пришли многие из тех, кто торжественно встречал Иисуса, входящего в Иерусалим. Пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых (Ин 12:9).
Лазарь настолько становится «героем дня», что первосвященники даже собираются его устранить: потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса (Ин 12:11).
Замысел этот остался неосуществленным. Но после входа в Иерусалим Лазарь более в Евангелии не упомянут. Что с ним стало в Страстную неделю? Бежал из Иерусалима, предупрежденный о замыслах первосвященников? Скрывался? Неизвестно.
Лазарь вообще один из самых загадочных евангельских персонажей.
Сообщается о нем только в Евангелии от Иоанна. Это смущало очень многих библеистов. Казалось бы, о таком чуде должны были знать и остальные евангелисты.
Да, конечно, они о нем не могли не знать. Но знать и письменно сообщать —далеко не одно и то же; особенно в первый век существования новой Церкви.
Иисус сам не записывал свои речи и не требовал этого от своих последователей. Скорее наоборот. Устная стихия евангельской проповеди была живой антитезой книжности оппонентов Христа. И несколько десятилетий христианство держится устной передачей, из уст в уста.
Но христианская миссия ширится, увеличивается и число проповедников; далеко не все они были свидетелями земной жизни Христа или могли подробно слышать о ней от апостолов. Да и непросто все удержать в памяти. Возникает необходимость в кратких записях, конспектах. Так складываются Евангелия.
Меняется и аудитория проповеди. Самое древнее Евангелие, от Матфея, составлено для миссии среди иудеев. Цель — показать им, что Христос и есть Мессия. Из Его жизни и проповеди, соответственно, отобрано прежде всего то, что указывает на сбывание ветхозаветных пророчеств. Да сбудется реченное через пророка Исаию… Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию…
Евангелие от Иоанна, считающееся наиболее поздним, создавалось с другими целями и для другой аудитории. Идея обращения иудеев к этому времени утратила актуальность; напротив, набирала обороты полемика с ними.

Фото Père Igor, Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Это можно заметить, сравнив два воскрешения: дочери Иаира из синоптических Евангелий и Лазаря. В первом случае Иисусом возвращается к жизни дочь начальника синагоги — пусть не первосвященника, но человека, связанного с иудейским культом. Во втором воскрешение, напротив, вызывает у служителей этого культа, причем главных, острую враждебность.
Евангелие от Иоанна создавалось вдали от Иудеи — скорее всего, в Эфесе, среди преимущественно греческого населения; оно и было основной аудиторией проповеди Иоанна и его учеников. Первые же строки этого Евангелия, где Христос назван Логосом, отсылают больше к эллинистической традиции, чем к ветхозаветной. Нужно было показать Христа не столько как Мессию (понятие, эллинам незнакомое), сколько именно как Бога. Как Бога и одновременно — как Человека. Отсюда и соответствующий отбор сюжетов.
В Евангелиях сообщается о трех воскрешенных Иисусом умерших. Сына вдовы. Дочери Иаира. Лазаря. Возможно, их было больше, мы не знаем. …Мертвые воскресают и нищие благовествуют (Мф 11:4). Но именно рассказ о воскрешении Лазаря оказывался важным в проповеди среди эллинов. В нем показана одновременно и человеческая, и Божественная сущность Христа. Как Человек, Христос скорбит о Лазаре и оплакивает его. И как Бог, воскрешает его из мертвых.
Господь въезжает в Иерусалим.
Голова Его то поднимается, то опускается. Он покачивается на спине ослика, дорога камениста, тяжело сияет солнце.
Он едва возвышается над толпой, как всегда, окружающей, теснящей его. Сегодня это необычная толпа, много новых лиц. «Осанна!» Срывают пальмовые ветви, машут ими. Его окружают Двенадцать. И Лазарь. Лазарь идет рядом. На него показывают пальцем, только и слышно: «Вот он, вот, тот самый… Да, четыре дня… А даже не скажешь…»
Возможно, это выглядело так. Сегодня бы это, конечно, было заснято десятками, сотнями айфонов. Тут же выложено, с тысячью лайков, дизлайков и прочего мелкого сетевого мусора. С сотнями селфи: я — и Христос, я — и Лазарь, я — и апостолы, я, я, я… Но тогда этого не было — к счастью.
…Лазарь слегка отстает, ему еще тяжело идти. Он еще не совсем привык к жизни, в которую его вернули. Солнечный свет для него слишком ярок, крики толпы — слишком громки, все слишком наполнено, распираемо жизнью.
Счастлив ли он, что его воскресили? Конечно. Но к этому счастью еще надо привыкнуть. К десяткам, сотням взглядов, направленных на него. И он идет рядом с Иисусом. Впереди, над головами идущих, над живой рекой пальмовых ветвей, появляются стены Иерусалима, все ближе и ближе.
Мы ничего не знаем о жизни Лазаря до его воскрешения.
Как произошло его знакомство с Христом? Кем был Лазарь по профессии и чем кормил себя? Была ли у него, помимо сестер, семья? Был ли он праведным — или грешником, раскаявшимся и переменившим жизнь после встречи с Христом?
Это неизвестно. Он воскрес из мертвых — и не в силу каких-то личных заслуг, но только волей и любовью Христа.
Мы опять же не знаем, от чего он умер. Но мы знаем, для чего он воскрес.
Вход Господень в Иерусалим — это высшая точка великопостного восхождения. Здесь завершается та — основная — часть поста, где мы движемся по пути святых. Тех, кому посвящены воскресенья (Недели) Великого поста.
Каждое воскресенье, как ступень, означало победу над каким-либо грехом или искушением, одним или несколькими.
Предыдущее, Марии Египетской, было победой над блудной похотью. Блуд — грех, наиболее близкий к смерти. Сластолюбивая заживо умерла, как писал апостол Павел (1 Тим 5:6). Любой грех запускает механизм распада; но блуд — особенно. Сила, которая понуждает человека к созданию новой жизни, начинает действовать в противоположную сторону, как только ее удовлетворение из средства становится целью: самодостаточной, господствующей, порой единственной. И Эрос — непросветленный, судорожный, мутный — становится Танатосом.
Мария Египетская была в этом смысле заживо умершей — и смогла воскреснуть. Но в случае Лазаря действие смерти уже не за кадром, не где-то внутри, невидимо и постепенно. Оно явно и страшно. Лазарь умирает, Лазаря хоронят, Лазаря оплакивают.
Мария воскресла из «смерти заживо», но в конце, как мы знаем, все равно умерла. Эта была удивительная, высокая и светлая смерть, но это была смерть. Могилу Марии выкопал лев; это было чудом. Но в случае Лазаря чудо было несопоставимо большим: он сам, как сказано в апокрифе, с которого мы начали, «выскочил из гроба, как лев, из логова идущий на охоту».
Читайте тексты сухбата афлатуни о неделях великого поста:
- Как любовь византийской царицы к мужу-иконоборцу приблизила Торжество Православия
- Тайна священного безмолвия. Почему во второе воскресенье Великого поста мы вспоминаем о святителе Григорие Паламе?
- Святая стабулярия. Как благодаря царице Елене крест из пыточного орудия стал величайшей святыней христианского мира и почему мы вспоминаем об этом в Крестопоклонную Неделю
- Лестница, которая заставляет удивляться и плакать, — о чем мы вспоминаем в 4-е воскресенье Великого поста
- Путь борьбы и преображения. Как Мария Египетская обрела покой за Иорданом
Это была великая охота — охота за бессмертием. Охота, начатая с момента грехопадения, когда смерть быстро и решительно вошла в мир. С тех пор смерть охотится за человеком, а человек охотится за бессмертием. Ставит на него силки, поджидает в засаде… «И я из тех, кто выбирает сети, / Когда идет бессмертье косяком» (Арсений Тарковский).
Охотится — и не может поймать. Но то, что невозможно человеку, возможно Богу (ср. Мф 19:26).
Та часть Великого поста, которую мы называем Великой Четыредесятницей, завершается накануне, в пятницу. Эта часть начинается трауром — облачением клира в черные великопостные одежды, и завершается трауром — по умершему Лазарю. Но сам Великий пост не завершается. Господь спешит в Вифанию, совершить свое последнее, самое известное чудо. И войти вместе с учениками и воскресшим Лазарем в Иерусалим.
И в свете этого воскрешения вход в Иерусалим тоже обретает новый смысл. Если воскресший Лазарь — прообраз воскресшего Христа, то Иерусалим — прообраз Царства Небесного. Того вышнего Иерусалима, который матерь всем нам (Гал 4:26). Место, в котором не будет смерти.
Великий пост и есть непрерывное вытеснение смерти, борьба с адом. Прежде всего, с тем личным адом, который мы себе сами вольно и невольно создаем. Изменение пространства и времени, в которых мы обычно существуем.
«Само время как бы приходит к концу, — писал протоиерей Александр Шмеман. — Теперь оно измеряется уже не обычными нашими делами и заботами, а тем, что совершается на пути в Вифанию и дальше, в Иерусалим. …С того момента, когда мы слышим: “Веселися Вифания, дом Лазаря...” и затем... “Заутра Христос приходит...”, внешний мир становится как бы нереальным, и нам почти боль причиняет соприкосновение, неизбежное, с его суетой. Реальность — там, в церкви, где с каждым днем мы все больше осознаем, что означает ждать и почему христианская вера есть, прежде и больше всего, ожидание и приготовление».
И загадочное «исчезновение» Лазаря в Евангелии после того, как мы видим его идущим рядом с Иисусом под крики «Осанна!» — вполне логично. Лазарь воскрес и вошел вместе с Господом в Иерусалим. Пусть еще земной, а не небесный. Пусть, как сообщает предание, он еще проживет еще тридцать лет и закончит свои дни епископом на Кипре… Все это будет важно — повседневный труд веры; повседневное, кропотливое выстраивание и выращивание христианства в себе и вокруг себя. Но это уже будет другая, не великопостная, история.
Вход в Иерусалим — это живой, движущийся, шумящий множеством голосов прообраз Пасхи. Прообраз полной победы над смертью. Первая, важная победа, уже одержана. Лазарь воскрешен; ад не смог удержать его. Первая, но еще не окончательная. И чтобы одержать ее, Господь входит в Иерусалим.
Движение Великого поста доходит до своей кульминации — чтобы со Страстного Понедельника начать новое восхождение, самое последнее.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.