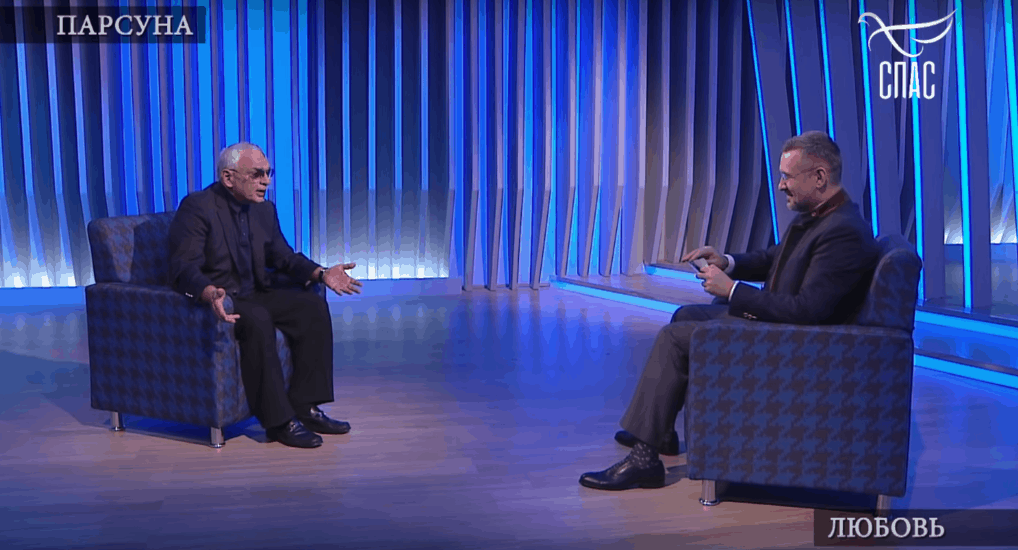На телеканале «Спас» вышел тридцать шестой выпуск «Парсуны» — авторской программы председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды. Представляем вашему вниманию полный текст и видео программы.
Гость программы кинорежиссёр Карен Шахназаров.
Здравствуйте, уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ «Парсуна». И сегодня у нас в гостях Карен Георгиевич Шахназаров. Карен Георгиевич, здравствуйте, очень-очень рад вас видеть. Я вам очень благодарен. Спасибо большое.
Взаимно. Спасибо большое.
У нас, как я говорил, пять частей: «Вера», «Надежда», «Терпение», «Прощение» и «Любовь». Такие простые, незамысловатые темы. Но я хотел бы вначале, до того как мы начнём говорить про веру, попросить вас по сложившейся у нас традиции не то что бы представиться, но сказать что-то о себе, что бы вы считали сегодня, здесь и сейчас, важным, может быть, самым главным — или не самым. Но вот как бы вы представились?
Профессионально — кинорежиссёр.
Это все знают.
Не знаю, такой сложный вопрос. В смысле, кто я? Это типа Незнайка в Солнечном городе, что-то такое. Потому что чем старше становлюсь, тем больше думаю, что очень мало знаю об этом мире, о жизни. Такой странный вывод я делаю с годами. Ну а «Солнечный город» — поскольку живу в России.
ВЕРА
Первая тема. А как вы думаете, человек без веры может жить?
Нет, я думаю, нет. Мне кажется, что нет, не может. Даже те, кто… понимаете, те, кто декларирует, что живёт без веры, это ведь тоже вера. Атеизм — это, например, форма веры. Потому что, собственно, невозможно доказать, что Бога нет. Поэтому я думаю, что человеку всё-таки свойственно во что-то верить. Это какая-то необходимая часть нашего существования. Поэтому я думаю, что нет, без веры жить невозможно.
Карен Георгиевич, а вот всё-таки смотрите, люди искусства — ведь для многих это тоже своего рода религия, как сейчас говорят — со знаком (показывает рукой кавычки), даже, скажем, про театральных у нас говорят, что они служат. Не просто так, наверное? У нас служат священники, военные и в театре. Вот в связи с этим людям творческим — режиссёрам, актёрам, писателям — сложнее находить религиозную веру? Или это вообще не зависит от профессии в том числе?
Это зависит, я думаю, от характера человека. Достоевский был очень религиозным, на мой взгляд, Чехов был очень… внутренне его произведения наполнены, хотя он никогда не производил впечатление верующего — внешне — человека, но, на мой взгляд, у него это присутствует, в его произведениях. Но я так скажу, что я лично никогда не относился к тому, что я делаю, если говорить так громко — к искусству как к религии. Мне кажется, что это ошибка.
А есть такое отношение, да?
У кого-то есть такое отношение, кто обожествляет искусство, но мне кажется, это неверно, потому что, собственно, искусство — это метод познания жизни. Собственно, я работаю в этой профессии не ради этой профессии, не ради… это не самоцель. Для меня как бы… я пытаюсь в меру своих сил познать окружающий мир через, допустим, в данном случае — через кино. Поэтому я думаю, что те, кто превращает искусство в религию, мне кажется, это ошибка. Искусство, на мой взгляд, — это форма познания мира. Есть форма познания мира через науку — это через рацио, через разум. А есть чувственное познание мира — это искусство, это как раз форма познания человеком окружающего мира и себя в нём. Собственно, религия — это тоже форма чувственного познания, только другая. Поэтому лично я так отношусь. Для меня искусство не есть само по себе нечто такое, чему мне надо поклоняться. Но это зависит от взгляда. Потому что да, кто-то из моих коллег, и не только из моих коллег… они обожествляли. Но это и феномен, может быть, тоже еще нашего времени, потому что я заметил, что смысл своей деятельности в искусстве многие считают, — это самовыражение, то есть себя выразить.
А это не так?
А это не так.
А почему?
Потому что, я повторяю, одно дело, если ты пытаешься познать этот мир и познать эту жизнь, и увидеть те вопросы, которые есть в этом мире у человека, собственно, это твоя миссия как художника. И совсем другое дело — ты самовыражаешься, то есть ты себя раскрываешь, ты в себя нацелен, ты нацелен не вовне, а вовнутрь. И, мне кажется, в этом есть какая-то форма эгоцентризма, которая присуща этому времени. Строго говоря, по-настоящему великие художники, они ведь, собственно, разговаривали с Богом, на мой взгляд. Им дано было право — их талантом, который был им послан, — разговаривать и задавать вопросы Богу, на мой взгляд. Так сказать. А мы вот этот разговор наблюдаем, слушаем. И как правило, в этом разговоре нет ответов, но главное, что в этом разговоре есть вопросы, что более важно.
А вот вы сказали, с Богом гениальные говорят художники. Но ведь бывает, когда ты не туда говоришь (показывает вверх), а туда (показывает вниз), с другим началом?
Бывает, да, такое тоже бывает.
А вы вот в своём творчестве, у вас были такие ситуации, когда вы понимали, что разговор начинается не горизонтальный и не вверх, а вниз, и как тут быть-то вообще? Как себя вести? Такое искушение в искусстве.
Бывали, да, бывали. Я думаю, что это такой вопрос интересный. Но тут надо преодолевать себя.
Тяжело, наверное, это очень?
Да, это такой очень момент сложный.
Такое фаустовское что-то?
Да. При этом надо понимать, что этот вопрос в нашей сфере — это часто вопрос интуиции и каких-то вещей, которые ты порой не можешь объяснить. Так же как есть такое абстрактное вроде понятие — вдохновение. Но я могу сказать, что оно бывает, реально бывает, и ты не можешь объяснить, откуда это приходит, но к тебе приходит какое-то ощущение, что нужно делать вот так вот и собственно, никак по-другому, но ты до конца не можешь понять почему. Но ты знаешь, что это правильно. И это происходит не всегда. Но в какие-то периоды у меня такие момент были. Я их очень ценил. К сожалению, это не нечто постоянное. Это как будто что-то тебе так раз — и включается. Я даже, знаете, заметил, причём не сразу, а со второй, третьей картиной, что как бы не сразу, ты начинаешь снимать, именно съёмочный период. В какой-то момент ты вдруг чувствуешь, что картина, уже вроде бы она сама… самосоздаётся. И твоя миссия — не мешать, помогать, оградить. То есть ты ловишь момент, когда… И порой она движется совсем по каким-то своим законам, которые ты, может быть, изначально даже и не предполагал. Но тут уже главное — не мешать. И я всегда, когда снимаю, я очень жду этот момент. И если он не наступает, то, я повторю, у меня во всех случаях это не бывает моментально, бывает, проходит день, неделя, и вдруг раз — и ты чувствуешь вот это ощущение, что картина работает. Но я очень нервничаю, если, бывает, на некоторых картинах: неделя, две, три — а этого не происходит.
Спасибо.
НАДЕЖДА
У нас следующая тема — «Надежда», и я хочу вот вам какой задать вопрос. Миллионами любимый до сих пор «Курьер» — и мной тоже лично очень, я очень часто вспоминал эту замечательную фразу, когда герой в конце Базину дарит пальто и произносит эту замечательную фразу: «Носи и мечтай о чём-нибудь великом». Это ведь такое послание надежды, которое, ну, давайте так прочитаем — обществу, молодёжи, стране в каком-то смысле давалось. Я так сейчас на это смотрю. А у нас как-то пошло, сначала, понятно, что-то со страной, потом мы должны были купить это пальто, потом кто-то захотел два-три, и вот мы всё как-то, как мне кажется, никак не можем начать мечтать о великом.
Финал в «Курьере» тоже… в принципе рождался на площадке, то есть на съёмках. И по-моему, даже этой фразы, я не помню, по-моему, этой фразы не было в сценарии, по-моему, уже на площадке это родилось.
Это очень сильно.
Ну, мне кажется, во всяком случае, она уместна была в финале. Я понимаю, о чём вы говорите, но, с другой стороны, надо понимать, что, знаете, мечтать о чём-нибудь великом по большому счёту — это очень трудная задача. Это внутренняя большая работа для этого нужна. Это легко сказать, но нелегко сделать. Так же как когда меня спрашивают: «Верите вы в Бога?», я всегда говорю: «Я верю в существование высшей силы, которая да, может называться Богом», я человек невоцерковлённый, но я верю в это, и пришёл к этому самостоятельно, поскольку я вырос в стране, я был действительно то, что называется атеистом. И в какой-то момент, даже в силу, я бы сказал, наблюдений за жизнью, я пришёл к мысли, что непременно есть сила, которая определяет нашу жизнь и которая существует. Но всё равно это процесс. Ты не можешь однозначно сказать: «Я верю», так же как ты не можешь мечтать о чём-нибудь великом. Это тоже некий процесс. Это даётся, мне кажется, людям, которые заслужили это, как награда. Это вообще — большая награда. На мой взгляд, это награда — мечтать о чём-нибудь великом, награда, которую надо заслужить. Это нелегко сделать. Так же как, на самом деле, верить искренне, вот искренне верить в Бога, потому что полно людей, которые делают вид, что они искренне верят в Бога, а на самом деле не верят. Истинно верить в Бога — это тоже награда. Это не каждому дано. К этому надо прийти. Это надо каким-то образом заслужить. Поэтому легко сказать: «Я верю в Бога», но на самом деле — нет. И люди — я видел таких людей, — которые искренне верят, — это счастливые люди. Это даёт им совсем другое внутреннее состояние души. Это даёт им энергетическую мощь, мне кажется. Но таких не так много, на самом деле.
Очень интересно, что вы связали это со счастьем, потому что известен стереотип «Вот, эти несчастные верующие…», у них всё плохо. А я вот с вами совершенно согласен.
Наоборот, это огромное счастье.
А Карен Георгиевич, а вот про «Город Зеро» хочу спросить у вас. Известно, что Сергей Георгиевич Кара-Мурза считал, что это у вас там вообще зашифрованный сценарий развала СССР, и вы на эту тему как-то рассуждали. И оценка такая серьёзная, мне кажется, со стороны аналитика. Но я о другом хотел бы спросить. Мы всё-таки в теме «Надежда» находимся. Я, правда, давно не пересматривал, но вот на уровне воспоминаний, эстетики, чувства, которое вызывало, это скорее, всё-таки, фильм — крушение надежды. Нет?
Крушение мечты…
Надежды именно. Вот какая там надежда? Там, скорее, какое-то понимание, что вот в этом — там нету.
Ну, я не знаю, в конечном счёте, некоторые считают, что это тупик, финал: он плывёт на лодке, без вёсел… а я не считаю, что это тупик. Мне кажется, что это прекрасно — быть посередине реки, без вёсел, ранним утром, туман, прекрасно. Это какая-то необыкновенная форма свободы, мне кажется. Поэтому я не смотрю так… пессимистично.
То есть символ свободы…
ТЕРПЕНИЕ
«Терпение» — следующая простая тема.
«Терпение» — хорошая тема, да.
Ну вот я хотел бы с вопроса о кино, об искусстве начать. Вот много часто споров, мне кажется, пустых, вокруг того, что можно, что нельзя, когда люди не понимают природу искусства. Вот то, о чем Лотман хорошо написал, что преступление на сцене не равно преступлению в жизни. Там это просто преступление, а там исследование, то, о чём вы говорите. Но ведь исследовать можно по-разному. И вопрос такой: я как-то слышал, один человек сказал, что нельзя… не помню, какая была формулировка, по-моему, он сказал так, что можно показывать, снимать только те сцены, только то, что и в жизни при чём ты готов бы был присутствовать. А если ты понимаешь, что для тебя было бы это нетерпимо в жизни, невозможно — наблюдать, не знаю, какую-нибудь разнузданную оргию, — то ты не можешь это и в художественном плане демонстрировать. Потому что «всё что угодно» можно показать по-разному. Вот вы с таким критерием согласились бы? У меня большие сомнения по этому поводу.
У меня тоже сомнения. Вот с этой логикой… Я снимал сцену расстрела Романовых в «Цареубийце». И я бы не хотел присутствовать. Но я снимал это.
Ну да, это очень сложно показать, не показывая.
Да. Тут, наверное, идёт вопрос о мере вообще того, что… Другой вопрос, я считаю, что все-таки искусство — это не жизнь, это ты должен создать… это её отражение, ты должен искать правду жизни через искусство, но ты должен ее добиваться через художественные образы. То есть, строго говоря, просто показать трупы и море крови — это не есть искусство. Ты должен найти некий художественный образ, и если ты его находишь, он будет, кстати, гораздо более мощен и порой страшен, более страшен, чем то, что человек может увидеть в жизни. Ну такой простой пример я приведу: классическая сцена в «Летят журавли», смерть Бориса в исполнении Алексея Баталова. Там гениальный художественный образ. Там нету крови, там практически нету ранения, там показаны вот эти деревья, которые он видит, которые закружились над ним — и всё. И это производит колоссальное впечатление. Вот это вот то, что я называю «найден художественный образ». Можно было бы, наверное, смерть Бориса снять по-другому: шрапнель, голову оторвало, еще чего-нибудь — это все можно снять, конечно. Но вот здесь вот художники, они, конечно, были великие художники — и Калатозов, и Сергей Васильевич Урусевский, конечно, гениальнейший оператор, — они нашли вот тот художественный образ, который работает. И в этом смысле я бы даже сказал так: ты можешь сколько угодно показывать то, что есть, но это не будет работать, если это не облечено в художественный образ, всё равно. Это может вызвать скандал, это может вызвать какой-то интерес прессы, это может вызвать что-то такое, но на самом деле это никогда не станет предметом искусства. Вот и всё. Поэтому те, у кого нет такого дара — находить художественные образы, они прибегают вот к этим, как говорится, они пытаются возместить вот это показом… фактологическое такое, строго говоря, извините за выражение, кучу дерьма показал ты — и вроде как новатор, ну и что? Это всё равно не становится фактом искусства. А вот там, где художник находит какие-то мощные образы художественные, они порой гораздо более страшны. Они воздействуют на зрителя более эмоционально. И это как раз остаётся, это остаётся в памяти. Поэтому такие произведения, они переживают время. Почему мы говорим «классика»? Потому что эти фильмы, книги, где найдены эти художественные мощные образы… потому что это понимает любой зритель, может быть, не сразу, но всё равно это откладывается.
А как на зрителе отражается, если ему в основном показывают оторванные головы и кучи вот этого нехорошего вещества? Ведь это не может не воздействовать? То есть зрителя тоже надо воспитывать. Есть такая проблема сегодня?
Абсолютно есть. Особенно у молодёжи, конечно. Конечно, надо воспитывать. Учитывая, что мы с вами говорим после этого ужасного, так сказать, массового убийства в Керчи молодым человеком, эта проблема встаёт просто в полный рост. Я абсолютно уверен, что это продукт воспитания… Я не знаю, к чему следствие придёт, что там найдёт, но я абсолютно убеждён, что… Потому что я их видел и вижу, этих молодых людей таких. И это продукт воспитания этой современной цивилизации, интернет-цивилизации. Ну слушайте, у меня у самого дети, слава Богу, они сейчас этим… Но я видел, как они попадают в зависимость от этих игр компьютерных, где самое там обычное, как они по-детски называют: «Про что у вас игра?» — «Расчленёнка». Там такое, что, вы понимаете, волосы дыбом. Ну это не может не воздействовать на детскую психику. И конечно, кино воздействует. Кино же в большей степени на детей, на подростков, на юношей воздействует. Ведь мы вот сейчас, мы вспоминаем в основном те фильмы, которые смотрели в молодости. Потому что они тогда эмоционально на нас очень сильное впечатление производили. Сейчас уже это очень сложно. А тогда они производили. Если, как вы выразились, для тебя функция искусства — это самовыражение, тогда всё остальное не нужно. Тогда нету ни познания мира, ни воспитания — ничего нету. Есть только одна цель: самовыразиться. На что я всегда говорю: «А вы уверены, что это так интересно, ваше самовыражение?» Понимаете… Достоевский и Толстой не самовыражались. Они познавали и создавали этот мир. А кстати, Достоевский и Толстой были великими воспитателями на самом деле. Потому что у них же пронизаны их произведения неким посланием к людям. Какими они хотели бы видеть. Это же очевидно, все великие писатели, не только наши, кстати, французские, не знаю там, Виктор Гюго, Бальзак…
ПРОЩЕНИЕ
У нас следующая простая тема — «Прощение».
Очень простая!
«Прощение». У Кшиштофа Занусси есть замечательная книжка с замечательным названием «Пора умирать». И он там пишет о том, что он благодарен Богу, что Он его никогда не ставил в ситуацию выбора между своими взглядами и, скажем, благополучием его семьи, или друзей и так далее. Что у него не было необходимости совершать то, что ты, может быть, себе никогда не простишь. Вот вам близка такая точка зрения?
Ну, а здесь какая у него, у Кшиштофа, точка зрения? Он благодарен, что его не ставили. Если вы имеете в виду, как бы вы поступили… Вот интересно, как бы он поступил, если бы…
Видимо, он был не уверен, потому и благодарен. Мне кажется, это такой очень честный ответ. Мы всегда говорим: «Я бы никогда…» Откуда ты знаешь?
Это очень верно, что это честный ответ, потому что это очень сложный вопрос. Потому что понятно, что когда выбор идёт между Богом и, как говорится, чем-то тебе очень близким, то, конечно, очень сложно представить, как ты поступишь в этой ситуации. Хотя, наверное, по моей логике, ты должен, если ты искренне веришь, ты должен Богу служить и, во всяком случае, поступать так, как эта сила тебе подсказывает. И это в интересах, в конечном счёте, и твоих близких, как мне кажется. В большом если говорить, если в большом. Но это такой очень сложный вопрос, потому что можно опять это декларировать, но не знаешь, как это будет на самом деле.
Это, помните, в «Семнадцати мгновениях весны», когда начинают ребёночка у радистки Кэт раздевать. Но там выход из положения — она падает в обморок, и тема снимается. Но это вот пограничная история, как поступить.
Да, это очень морально сложный вопрос в принципе.
А были у вас в жизни ситуации, которые вы сейчас вспоминаете… Ну, я понимаю, не такого, не прямого выбора, но всё-таки вы как-то себя не очень прощаете за то, как вы поступили?
В смысле, какие-то вещи, которые ты себе не прощал? Ну да, конечно, были, а у кого они… Слушайте, у Достоевского, по-моему, замечательная есть фраза: «У каждого человека есть вещи, в которых он даже себе боится признаться». Это правда, это правда. Так что, конечно, и в моей жизни были ситуации, которые я не хотел бы себе прощать.
Вот а всё-таки, как вы думаете, это тоже, наверное, неправильно — не прощать, по крайней мере, христианский подход говорит, что топтаться на своих проступках, всё время ковырять эту рану — тоже неправильно. Проблема не в том, что ты падаешь, и задача не в том, чтобы не падать — всё равно будешь, а в том, чтобы ты встал и пошёл. И вот когда ты копаешься, это ты немножко лежишь, нет?
Ну, можно по-другому сказать, необязательно лежать и копаться, можно не прощать и из этого сделать выводы для того, чтобы не совершать нечто подобное и идти дальше. Я так, скорее, на этот вопрос смотрю. Но я думаю, что, с другой стороны, если человек сам себе всё прощает, то это нехорошее дело. Из этого толку не будет.
Такой белый и пушистый?
Из этого толку совсем не будет. Я думаю, что, как раз если говорить о прощении к другим — это одно дело, а вот к себе — человек должен быть в этом смысле, скажем так, принципиален. Иначе у него нету… не на что опереться в дальнейшем. Как раз если ты понимаешь, осознаёшь свой грех, ты можешь каким-то образом идти исправлять это и как-то пытаться в дальнейшем не совершать. Мне кажется, это важно для человека.
А другим? Вы сказали, к другим — другое дело. А другим всё надо прощать?
Ну, всё — нет. Понимаете, это прерогатива Бога, это не человеческое, это не наше. Мы тогда пытаемся себя соединять в этом смысле с Богом. Это право Бога — прощать.
А когда не прощаем, разве не пытаемся соединить?
Нет. Не прощать — это по-человечески. Ну, как я понимаю.
А, поймали вы меня.
Мы берём на себя…
То есть не по Сеньке шапка.
Не по Сеньке шапка. Человек должен понимать, что он всего лишь человек, и он живёт в человеческом обществе, и оно у него организовано так, как организовано. А Бог, он… Это миссия Бога, поэтому каждый в конечном счёте будет там свои личные взаимоотношения решать. И прощать, не прощать — это Бог будет решать.
ЛЮБОВЬ
Спасибо большое, у нас самая простая тема — «Любовь» Осталась.
Да, у вас такие простые темы. В общем, очень простая — любовь: либо она есть, либо её нет.
А она есть или нет? Вообще?
Был такой французский знаменитый в XVII веке мыслитель, Ларошфуко. У него такая фраза смешная была: «Любовь — это много кто слышал, мало кто видел».
Ну у него много смешных таких фраз.
Так что я бы воспользовался этой фразой Ларошфуко. Любовь — она же многообразна очень, она выражается в очень разных… Любовь первая — это любовь к женщине. Ну, на самом деле любовь — это огромнейшая часть мира, такая же, как вера. И я думаю, что к ней применимо, так же, как к вере, — это процесс. Это нечто, что никогда не бывает конечным. И в отношении к женщине любовь — это процесс. Он проходит разные стадии. Есть и производное от любви — страсть, что тоже свой подвид любви. И там совершенно разные стадии это проходит и может самые ужасные формы приобретать. Но есть любовь к детям, есть любовь к родителям, есть любовь к родине, есть любовь к Богу, есть любовь к Церкви, есть любовь к делу, которым ты занимаешься, есть любовь там, я не знаю… У любви очень много…
Но всё-таки она везде есть? Как бы остроумно ни говорил Ларошфуко, наверное, всё-таки есть.
Да, она везде есть. Он, наверное, имел в виду женщин, наверное, только эту часть.
Ну это вы сказали — вместе со стариком Ларошфуко. Карен Георгиевич, а вот «Решение о ликвидации» — фильм, где вы главный продюсер. Вот там, я понимаю, что это, что называется, основано на реальных событиях, вы говорили, что там и консультанты были, и всё. У меня как раз вот какой вопрос про любовь. Ведь там фактически вот этот ключевой человек, который когда-то был — и остаётся в каком-то смысле — пособником этого Базгаева, главного террориста, вот наш офицер, когда его, он ведь его не пугает, ничего, а он скорее апеллирует к его отцовскому чувству. То есть в каком-то смысле, ну я обобщу немного, может быть, даже с искажением небольшим, но он вот его любовью как бы завоёвывает? Вы согласились бы с такой трактовкой?
Ну да. Конечно. Ну, я думаю, что это и происходило.
Ведь тот фактически собой жертвует потом?
Да, да. Ну, я думаю, что вот этот поворот и происходил тогда, в периоде этой, как я считаю, гражданской войны, это была гражданская война. Но там, если помните, есть другой персонаж, один из командиров боевиков, который приходит и говорит: «Ну ты перешёл черту уже, с детьми нельзя воевать». Там же и этот момент тоже есть. Но это реально так и было. Это произошло. Если бы этого не было, эта война бы длилась до сих пор. Я считаю, что там, конечно, в принципе сам чеченский народ —не только чеченский, там же не одни чеченцы были, — но сам народ понял, что это есть черта, которую уже невозможно переходить. И поэтому как бы война закончилась. Я вообще думаю, что гражданские войны — они заканчиваются именно тогда, когда одна сторона понимает, что это уже нельзя делать дальше. Не имеет смысла, это пустое. Потому что только тогда. Я, кстати, думаю, что и белое движение потерпело поражение, потому что внутренне оно пришло к этой же мысли. Это видно через воспоминания, через это… как бы когда читаешь, понимаешь, что они вдруг поняли, что… То есть не все, естественно, но основная часть, костяк людей, он потерял доверие. Он понял, что эта борьба бессмысленна. Она просто губит — губит и страну, и их самих, и, так сказать, и будущее. И вот когда они пришли к этому, вот тогда, на самом деле, война закончилась. Потому что так она бы могла продолжаться ещё десятилетия.
Но я ещё почему таким образом вопрос сформулировал, здесь вот любопытно. Я смотрел вот этот сериал «Родина», который Лунгин снял. И он ведь тоже там потом говорил, мы с ним на эту тему тоже общались здесь, в этой студии, он тоже там показывает, условно скажем, вербовку любовью. Как-то неслучайно… Может быть, мало там материала, чтобы делать выводы, но всё-таки смотрите: один фильм, другой фильм, тоже интересно, что эта тема появляется, да? Когда, получается, всё-таки к глубинному чему-то апеллируют, и происходят какие-то серьёзные вещи.
Но это ведь на самом деле самое важное. Вообще выигрывают всегда идейные люди. Вообще-то, я считаю, что по жизни люди, наделённые идеей, они всегда сильнее. И они всегда обыграют тех, у кого нет этой идеи, либо она слаба, либо она… либо они какими-то там… деньги, так сказать… Идея… как говорил Наполеон, слово имеет удивительную власть над людьми. И это так, абсолютно, я в этом убеждён. Я просто это видел в жизни. Меня к этому не какие-то там книжные истины пришли, а моя жизнь, я видел людей. Люди, у которых есть идея, они всегда сильнее. Поэтому когда апеллируют к этому, если человек воспринимает это, он, конечно, это совсем… Собственно, возьмите, все эти великие разведчики, советские, английские. Они же работали за идею. Для них это…
А вот, здесь ещё одна тема возникает. И кстати, в «Решении о ликвидации» это есть, вот то, о чём мы сказали, и, наверное, в любой любви. Вот любовь в пределе — это всегда готовность на жертву? Ну вот в пределе, по максимуму, это всегда готовность к жертве? Вот смотрите, вот вы даже перечисляли разные, там, любовь к профессии, это же тоже, наверное, в пределе — готовность чем-то пожертвовать. То есть получается…
Ну, любовь — это и есть жертва. А как? Если нету жертвы — нет любви. Поэтому я и говорю, это очень сложное чувство. И оно на самом деле очень опасное, и оно требует больших духовных сил. Потому что если нету жертвы, то нет и любви. Любовь — это… Смысл любви в том, что это выходит за рамки наших инстинктов.
В этом смысле опасно, вы говорите?
Да, потому что инстинкт самосохранения у любого человека, животного (в этом смысле как животного, человека), сохранения себя. А любовь, она человека может заставить пожертвовать своей жизнью. Люди на фронте жертвовали своей жизнью ради любви, и сейчас там жертвуют, и во взаимоотношениях, кстати, мужчины и женщины это тоже, человек способен пожертвовать порой жизнью, ну и, во всяком случае, своими амбициями, своими какими-то страстями ради любви. Вот это и есть. Ну тогда это любовь. А если нету этого чувства, нету жертвы, а что тогда за любовь? Это как вера в Бога без… Ну вот, строго говоря: «Я верю». Ну и «Я люблю». Это нет… Всегда нужно, как вот в Церкви, да, догматы, доказательства должны быть. Вот так и в жизни. Должны быть некие доказательства. Тогда это чувство становится реальностью. Это, конечно, необязательно, может быть, дай Бог, что человек любит, и не пришлось ему… Но я имею в виду, что…
Готовность.
… такой человек, он готов к этому. Он к этому внутренне готов. Ну, мне кажется так, во всяком случае.
А это самое тяжёлое в любви?
Да, я думаю, что это, конечно, самое тяжёлое. Конечно, это и есть… А любовь… Понимаете, любовь, мне кажется, вот в этом смысле у нас нарушено ещё основное, мне кажется, воспитание человека. Любовь — это усилие. Вера — это усилие. Это нелегко. Жизнь — это усилие. Это испытание. Это, вообще, испытание. Вся наша жизнь — это испытание во всех её проявлениях. Понимаете. И как мне кажется, вот так надо воспитывать людей, тогда они… Но вот сейчас-то всё... сейчас жизнь — это наслаждение. Главное, чтобы было тебе хорошо. Главное, что это, но это неправильно, мне кажется.
Получается, вот исходя из той логики, которую мы с вами выстроили сейчас, если это так, то мы придём в точку, где в жизни не будет любви просто. Потому что там не будет испытания, жертвы.
Ну конечно, это самоуничтожение. Жизнь — это только наслаждение, это как бы добиваться только своего благополучия в этой жизни, духовного благополучия, это всё, тогда жизнь перестаёт быть жизнью. Если ты хочешь, чтобы ты был духовно благополучен, тебе не надо любить, на самом деле. Потому что любовь — это напряжение. Это боль. Мы же болеем — вот простое — за детей. Даже вот, мы же всё время болеем. А зачем нам это? А зачем это нужно? А зачем тогда нужно это — тогда не нужны дети. Тогда и это не нужно, тогда и любить человека не нужно, потому что это всегда, любовь — это и жертва, это и страдание, да, всякие формы есть у любви. Человек уходит от всего, но тогда он перестаёт, а тогда вы мне скажите, а что это за жизнь? В ней остаётся что? Да в ней ничего не остаётся. Это пустота, это тупик, это не имеет никакого смысла. Поэтому, мне кажется, но именно так, в сущности, вот современная цивилизация в период, я считаю, тотальной такой победы капитализма, она превращает… Вот это главный её тезис, главный постулат, главный догмат капитализма: жизнь — это наслаждение, и ты должен сделать всё, чтобы наслаждаться. Но таким образом она убивает человека, она его уничтожает. И уничтожает, в конечном счёте, и физически. И физически уничтожает, у человека ничего не остаётся. Ну я вот, во всяком случае, так смотрю. Поэтому я думаю, наоборот, жизнь — это испытание. Это не просто так, что ты, потому что сама вера — это ведь ещё сомнения, постоянные сомнения, постоянные сомнения, которые человека преследуют. Человек же, поскольку он конечен, ему во всём надо какую-то определённость. Всё-таки есть Бог или нет? Всё-таки вот Он, ну вот хорошо, а вот почему же? Вот какой основной тезис атеистов? Возьмите, вот он на чём основан? Ну хорошо, вот вы говорите, Бог есть, есть эта сила. А вот почему же так много несправедливости, почему дети погибают, почему стрелок стреляет, как Бог может допустить? Но Бог — это ведь не профсоюз. Слушайте, Он не обязан устраивать вашу жизнь, понимаете. Он дал вам разум, Он дал вам волю, он дал вам чувства, Он дал вам всё для того, чтоб вы организовали. Он дал вам… Это вы должны. Это ваше испытание. А вы хотите опять… Вот это и есть взгляд гедонистический: пускай Бог нам сделает так, чтобы у нас всё было здесь хорошо. Вот, строго говоря, вот так. Да нет, Бог не обязан. Бог вам подарил мир абсолютно гармоничный. Вы его уничтожаете — это ваша проблема. Вы не можете остановить войну, вы убиваете друг друга со страшной силой, вы уничтожили всё существующее на земле практически, но это вы. И вы можете погибнуть, и Бог не обязан вас спасать. Вот как я понимаю это. Но у атеистов взгляд вот именно такой, что Бог, пускай Он решит все эти проблемы нам. Ничего Бог не будет решать, Он не для этого, как говорится, это не его миссия. Как мне кажется.
Вот не хочется вас отпускать, Карен Георгиевич, но у нас финал. В финале я, как вам говорил, попрошу вас поставить точку или запятую, не знаю, какой пунктуационный знак вы предпочитаете, вот в таком предложении. Если вам покажется, что его надо объяснить, знак, то пожалуйста. Это не имеет отношения прямого к тому, о чём мы говорили. Но вот известно, что ваш отец — один из основателей политологии в нашей стране. И вы даже говорили много раз, что у вас такой интерес к политике наследственный. Но вопрос у меня про отношения художника и власти. Вот в предложении «Взаимодействовать нельзя размежеваться» вы где поставите точку или запятую?
Ну, видите, этот вопрос не совсем точный. Потому что власть-то разная, понимаете. А если это нацизм? Что за власть вы мне предлагаете? Поэтому тут я не могу сказать. Я, в принципе, если вы ставите вопрос в том контексте, в котором мы сегодня слышим, в нашем…
Да, я не говорю «обслуживать» — взаимодействовать.
…я имею в виду, в том контексте, который мы слышим сегодня, особенно от наших, так сказать, тех кругов, которые называются у нас либеральными, а я всегда говорю, что это очень условно, они скорее наши западники, а не либералы, потому что это нечто другое, ну, неважно. Это мы слышим, что вообще взаимодействовать с властью — это преступление. Здесь я скажу «нет», я, конечно считаю, что взаимодействовать, и ничего в этом не вижу преступного, если ты взаимодействуешь с властью в соединении со своими какими-то принципами. Там, где они нарушаются, значит, ты решай сам, как знак препинания переносишь. А некоторые и не переносили, великие художники, полно их было, они взаимодействовали. Дело всё в том, что власть приходит и уходит, по большому счёту. А великие художники остаются. Мы, на самом деле… в основном, Пушкина-то все знают. А всё-таки уже Александра I, или Николая I, вернее, в основном, конечно, знают, но вообще это в принципе что-то очень далёкое, вот эта власть той эпохи, для нас она на самом деле ушла. А Александр Сергеевич так, как был, так и остался. Микеланджело всегда прекрасно взаимодействовал с папой Юлием II, и при этом, ну, кто помнит Юлия II? Ну, историки помнят, ну, может, совсем такие образованные очень люди, такие интересующиеся. А Микеланджело: приедешь в Сикстинскую капеллу — миллионы людей приходят и, задрав головы, стоят. Поэтому это вопрос такой, это не мешало и Пушкину, кстати, с Николаем I вполне общаться, как говорится. Но вопрос тоже есть критический, там, нацизм, да. И то, надо сказать, ведь были талантливые художники, которые, там, Кнут Гамсун, норвежец…
Там тоже не всё сразу стало ясно. Ведь многие были увлечены этой…
Сальвадор Дали тоже был склонен. Он впрямую — нет, а Кнут Гамсун-то впрямую, его чуть ли не судили потом в Норвегии. А вообще, великий был писатель. Так что, знаете, тут тоже такой вопрос…
В общем, знак препинания у вас будет плавающий.
У меня плавающий в зависимости от… Тут вопрос, надо уточнять. Он не может быть такой однозначный. Это такой достаточно сложный ответ. Но в нынешний как раз, если в контексте сегодняшнего дня, я понимаю, он стоит, у меня никаких… то есть это не значит, что мне всё нравится, но я готов взаимодействовать с властью, считаю, наоборот, что это нужно делать.
Прежде всего для власти, может быть?
И для власти, и для нас, потому что главное, что я вижу сегодня: у нас власть национально ориентирована, она действует в интересах России и её народов. Допускает ошибки, порой действует не так эффективно, как хотелось бы, порой… Но в целом, во всяком случае, меня, в отличие от предыдущей власти 90-х годов, меня это убеждает, что с этой властью надо взаимодействовать. А уже там дальше посмотрим, как будет.
Посмотрим, куда ставить знак препинания. Спасибо огромное вам. Это был Незнайка в Солнечном городе — Карен Георгиевич Шахназаров. Вы сами так представились!
Да, раз сказал, значит, из песни слов не выкинешь. Я же подписал бумагу.