Можно ли шутить о вере и «Камеди Клаб» — это смешно? Об исповеди у отца Валериана Кречетова и о том, как священник благословил программу «Веселые ребята». О свободе музыки и насилии телевидения. Об этом и многом другом поговорили писатель-сатирик Андрей Кнышев и Владимир Легойда в программе "Парсуна".
Здравствуйте, уважаемые друзья, мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях в новой студии Андрей Кнышев. Андрей Гарольдович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рад вас видеть, это, знаете, как говорят в фильмах, это тот самый момент, когда ты понимаешь, что, когда мы студентами бегали, искали тоже книгу: «а ты уже прочитал?», обменивались этим всем, ты никогда бы не подумал, что вот удастся нам так пообщаться. Очень и очень рад вас видеть.
Спасибо, что пригласили, большая честь, честно говоря.
Спасибо. На всякий случай напомню, что у нас пять частей: вера, надежда, терпение, прощение, любовь — это связано с окончанием молитвы Оптинских старцев: «Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». И, как мы вам говорили, в начале я всегда прошу как бы представиться, и это тот самый случай, когда «как бы» не слово-паразит, а скорее такой вот… из глубины — как вы сегодня, здесь и сейчас ответили бы на вопрос: кто вы?
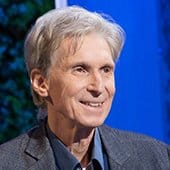
Андрей Кнышев — советский и российский телеведущий, режиссёр и сценарист, юморист, писатель-сатирик. Один из создателей цикла передач «Весёлые ребята». Окончил факультет градостроительства МИСИ и Высшие режиссёрские курсы.
Ну, я думаю, что все-таки такое важное мое внутреннее состояние состоит в балансе, в противоречии, в какой-то такой маятниковой иногда борьбе, а иногда содружестве полюсов таких разных, и они друг с другом, эти полюса, играют, и я в этом смысле человек играющий. То есть я бы не говорил о профессиях, потому что я играю немножко музыку, играю со словами, играю со смыслами, с формами, с изображением на экране, в какие-то периоды совсем какими-то своими ипостасями вообще не проявляюсь никак. Ну вот внутреннее состояние: мне нравится игровое отношение и оживление каких-то сущностей, которые для меня подчас мертвы. Поэтому я — человек играющий, может быть.
ВЕРА
Вот вы как-то сказали, что вы не очень любите жанр интервью, и вспомнили тютчевское: «Слово изреченное есть ложь». А вот в связи с этим значит ли это, что чем более серьезная тема, тем, может быть, меньше на нее надо говорить и как тогда вообще о вере говорить как о таком пределе серьезности?
Есть такой момент, да, потому что какие-то вещи лучше оставить сокровенными, прикровенными, не забалтывать, не выбалтывать, потому что действительно, даже сказано было, что не слово изреченное, а «мысль изреченная есть ложь». И вера — это настолько глубокое и интимное понятие, что я даже сомневаюсь, много ли я вообще говорил об этом с кем-либо. То есть мы, если в моем окружении с людьми мы общаемся, то мы не говорим непосредственно, что такое вера, есть ли у тебя вера, мы говорим о вещах, проистекающих из этого, как это в нашей жизни отображается, как влияет на наши поступки, на наше состояние, настроение и так далее. Но мне кажется, что вера — это, знаете, как… я технарь вообще по первому образованию, и в школе у меня было математическое такое и физика, такие предметы, довольно профилирующие, есть такой образ: опилки металлические, которые помещены на лист бумаги, и они лежат хаотично, это просто куча опилок. И если под этот лист поместить магнит, они выстраиваются в силовое поле. Оно невидимое, это силовое поле, но оно есть, и вот оно таким образом проявляется. Поэтому мне кажется, что вера — это вот это силовое поле, вне которого все события, люди…
Опилки не выстроятся?
Невыстроенные опилки, какой-то хаос, непонятки такие. Поэтому ничего не имеет смысла, если нет веры. И собственно, вообще, вся жизнь, мне кажется, без этого такая… тоже игровая, но бессмыслица. Вы знаете, я иногда записываю свои короткие какие-то сентенции, максимы и так далее…
Знаем, да.
…и ни разу я не посягнул, что ли, на какое-то афористичное определение именно слова «вера».
А скажите, а вот когда вы говорите, что вы человек играющий, и все-таки, как мы договорились, в глубинном определении, это значит, что все может быть предметом игры, или вот, исходя из того, что вы сказали, есть вещи, которые вы не станете играть?
А я это бы не артикулировал, потому что это тоже из внутреннего какого-то идет естества, существа, ты чувствуешь интуитивно, что вот здесь лучше не трогать, а здесь — да, можно трогать, но до какого-то предела. У нас вот, например, в семье и отец, и мама были крещеные, но я бы не сказал, что они были воцерковленные, хотя у мамы был крестик, она бережно к нему относилась, но разговоров на эти темы не было. Хотя весь социум, весь круг нашего воспитания, образование было таким материалистическим, атеистическим, тем более технари, они инженеры и так далее, но они никогда себе не позволяли никакой иронии, какой-то бестактности на эти темы. Была очень уважительная такая вот фигура умолчания, это означало и то, что в таком вот бытовом языке или в юморе, или в каких-то еще проявлениях это надо очень тактично, если не знаешь, тогда, что называется, не суйся, но это святое.
А как вы думаете, а почему сейчас это не так, когда, казалось бы, во-первых, не запрещено, больше известно и, в общем, лучше вроде бы понимается, и при этом позволяют себе не только шутить и иронизировать, но где-то и издеваться, и кощунствовать?
Ну, это же, что называется, признак медленно, как в замедленной съемке, но приближающихся последних времен…
То есть вы апокалиптично на это смотрите?
Да. И нарастающей дерзости. И этот темный, невидимый мир, он, в общем, ищет щели, ищет шансы, поводы, где еще можно дернуть за веревочку: что, и это можно, значит, и так можно, а теперь вот еще и так. И даже состязательное в этом начало присутствует, то есть здесь вот так вот, а я тогда еще вот так вот — это будет более замечено, отсюда эпатажные формы какие-то произрастают. Поэтому удивительного в этом ничего нет. Тоже я, говоря о себе, что такой я полярный человек: я и оптимист, и пессимист, то есть я в каких-то вещах очень медленный, долгий, а в каких-то мгновенный и стремительный, у меня нет середины. И также с этим началом каким-то юмористическим, смехачеством, остроумием, шутливостью — и философским таким настроением, иногда лиричным, меланхоличным…
Я вот про это хотел вас спросить как раз: вы когда-то сказали, что когда вы, вот вы с детства, я так понимаю, занимались музыкой, но когда вот это вышло неожиданно для вас самого на такие профессиональные, если можно так сказать, рельсы, но дело даже не в музыке, а вы произнесли фразу: «Я словно открыл себя заново». И вот у меня вопрос такой: а сколько раз в жизни вы себя открывали заново, вот это часто случалось, когда вы?..

Если по мелочи, то очень много раз, но вообще открывать себя заново — не обязательно ты с восторгом это делаешь и со знаком «плюс», очень часто ты открываешь себя заново и ужасаешься. Это, знаете, такая, записал сегодня фразу, что: «обиделся на себя и молчу уже неделю: оказалось, я не тот, за кого себя принимал». Но по большому счету и со знаком «плюс» — да, были такие моменты, вызывавшие такое вот сладкое ощущение какого-то рискованного поступка, который сам от себя не ожидал и который так много тебе принес, потому что через что-то в себе перешагнул, через стереотипы, страхи, какие-то шлаки, накопления, тянущие тебя назад какие-то веревки. Вот ты делаешь этот шаг и понимаешь, что открывается целая анфилада дверей впереди и совершенно новые на твоем дереве…. Я вообще очень люблю, знаете, простые образы, был такой период, я вообще думал, что я всю жизнь могу объяснить через образы такие: река, дерево, гора…
Ну, это все великие культурные образы.
Понятно, да, я не первый —облако и так далее, но мне казалось, что буквально их три-четыре, вообще все можно объяснить. Так это я к тому, что вот на дереве собственной личности ты как бы выращиваешь ветви, и вот тебе кажется, что это уже ствол, и вот сформировалась крона, ну и там какие-то маленькие отросточки, и вдруг какая-то почка просыпается и вдруг пускает ветвь целую, и уже на ней новые плоды, новые цветы, новые ветви и так далее. Поэтому вот это удивление. И человек каждый, я думаю, должен себя выращивать как живое дерево. Вообще дерево — действительно мощный образ, ведь так называемая файловая система в компьютере — это тоже дерево, река с притоками, если на нее взглянуть топографически — это тоже дерево. Очень интересно играть с корнями и ветвями, у меня тоже была мысль, что ветви — это корни в раю, вот этот перевертыш, как одно без другого не может существовать. Или я вообще немножко, чуть-чуть возвращаюсь к началу вашей программы, когда идет эпиграф, что «парсуна» — это, вообще говоря, портрет, написанный в технике иконы. Я, когда узнал, шел сюда, я вздрогнул, потому что я подумал: это так, вообще, если честно, надо будет сказать: «У нас программа «Портрет грешника», написанный в технике иконы». Понимаете, да, такое противоречие, то есть вот перед вами грешный человек…
У меня, что называется, ничего личного, но святых не так много было, хотя у нас несколько десятков программ, но среди них святых было немного, честно вам скажу. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим же сейчас про открытие себя, про познание, собственно, ту тему, над которой человек с момента начала человечества размышляет. И вот путь веры… часто тоже о пути веры говорят как о пути познания. И вот, собственно, вопрос у меня очень простой: а вы себя хорошо знаете, как вы думаете?
Ну, я знаю себя лучше других, это точно.
В смысле: лучше, чем вас знают другие или чем вы знаете?
Я думаю даже, что я себя знаю лучше, чем другие меня, тоже. И собственно, даже иногда мое знание других, оно основывается на моем знании себя, и тоже как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Я недавно проходил тест, я вообще не очень люблю вот эти тесты…
И там меня попросили ответить на вопросы, просто видимо хотели что-то сравнить свое. И я, пройдя по этому лабиринту, вдруг получаю ответ, что я… там очень много совпадений было, очень, действительно…
Это характеристика в конце?
Характеристика, да, но называлось это: вы — посредник. Я так задумался: посредник, интересно. А потом стал анализировать и подумал: в каком-то смысле — да, и даже вот на этой грани веры и неверия, безверия я иногда могу быть посредником, потому что я там был, в неверии, и я где-то уже здесь, то есть это начало пути, то есть это из категории: очень хочу верить и верю столько, сколько могу вместить, и хотел бы больше вместить и вообще вместить все. Но вот это вот посредничество, оно, действительно, может быть, в каком-то смысле мне иногда удается. Так было у меня вот, например, на телевидении, делал программу эту, «Веселые ребята», ведь кто я по сути был там — посредник…
Но вы создателем были.
Да, создатели мы с Виктором Крюковым, понятно, то есть мы генерировали вот эту форму, эту раму, вот это все эстетическое, идейное в рамках того времени поле. Но ведь надо было показывать людей, то есть я работал в отделе «массовых передач и телеконкурсов», и я не имел права просто, знаете, я сделал авторский тут фильм такой, и вот мои рассуждения, видеоряд, там какая-нибудь хроника, и я в кадре рассуждающий — это немыслимо было! Да и кто мы такие были, это вообще были утверждаемые с самых верхов персоналии. Но мы должны были показывать молодежь, ребят, вот какая у нас молодежь. Но, чтобы не было это беспрерывным идейным воспитанием, то как бы позволялись какие-то игровые тоже программы и юмористические и так далее. И я собирал, набирал, приглашал ребят, девчат иногда для участия вот в этом конкурсе и ездил по каким-то фестивалям, юморинам, КВНам, институтам, спрашивал, знакомых мучил и так далее. То есть я был посредником, находившим этих людей, для того чтобы показать их народу, из них тоже высечь какую-то искру, повернуть какою-то их гранью, для них, может быть, более выигрышной и правильной, которая иногда в будущем даже жизнь их меняла и так далее.
НАДЕЖДА
Знаете, о чем хотел вас спросить: вы много времени, насколько я понимаю, провели за границей — в Голландии, в Штатах, причем когда вот эти страны только открылись, даже, точнее, открывались они для нас, а вы уже там были. И вот это вот открытие, оно для многих какую-то такую надежду давало. Сейчас, когда время уже прошло и, по крайней мере до ковид-эпохи, мы могли, многие из нас, там тоже побывать, поучиться, пожить, отдохнуть, мы понимаем, что все не так просто, одно дело — поехать туристом, другое дело — там постоянно жить. Вопрос у меня такой: а вот какие они, ваша Америка и ваша Европа, есть там для вас в них какая-то надежда?
Знаете, я давно уже не был в Америке, то есть совсем, это измеряется уже, наверное, десятилетиями, то есть мое впечатление, мой вот этот срез этого определенного периода времени…
Да, многое изменилось.
Да, это конец 80-х, перестройка и первая половина 90-х. И когда мы говорим: «вы много времени провели» — я интенсивно провел там время, и я не уезжал вот так совсем, что называется, с потрохами, я ездил туда-сюда. Но концентрированность моего времяпровождения там была и в том времени, она очень была высока, что ли, во всяком случае, для меня. И я об Америке могу судить только вот о той реальной, которую я знаю, и дальше — о ее медийном отображении и экстраполяции того, как я себе представляю, как это все развивалось. И многое поменялось, как на ленте Мёбиуса, с точностью просто до наоборот, причем я шаг за шагом проходил вот в своем понимании, ощущении вот по этой ленточке, и каждую стадию…
Вы сейчас смотрите эту историю, наверняка: «BlackLivesMatter». Вот как вы ее для себя объясняете, вам понятно, почему это случилось, что это и почему это случилось?

Ну, опять-таки, вот если говорить на каком-то уровне вечном, что ли, то опять это все знаки вот эти предвестники вот этих времен, которые мы не знаем, когда будут, и мы, может быть, можем их очень долго отодвигать, и долготерпение Божие, нам неведомо, сколько это может продлиться, но это «оттуда» всё какие-то знаки, это размывание каких-то ориентиров, расчеловечивание, какое-то превращение черного в белое — в данном случае я говорю не о цвете кожи, а о значимостях, — вот это откуда-то «оттуда», такие коллективные безумия. Ну как, если страны могут буквально сходить с ума, просто быть зомбированными, загипнотизированными целыми лидерами или правительствами, так и здесь, здесь что-то… Я понимаю, что, наверное, я не скоро окажусь там, тем более после таких оценок, но я с оторопью это вижу, просто даже иногда комментарии излишни, вот это целование подошв туфель полицейских — это, действительно, уже какая-то психиатрия, какая-то аберрация сознания.
Что касается Европы я бывал там позже и даже, знаете, такой момент: я был, вторая в жизни моя исповедь была у отца Валериана Кречетова, и я… этому вообще сопутствовали мистические всякие события, это всегда какие-то обстоятельства не пускают, обязательно ты должен опоздать, что-то сломать, какой-нибудь звонок, только чтобы ты там не оказался. И это было очень сильно выражено в тот раз, но все-таки я доехал, и я в числе прочего, сказал ему: «Благословите на поездку, вот мы собираемся в Центральную Европу…» И он так задумался, и как-то мне фраза эта долго была непонятна, это было начало 2000-х, он сказал: «Нет, ну съездите, съездите, пока всё у них там еще не кончилось», вот как-то так он выразился или: «пока там не началось…» Мне было несколько лет непонятно, разве может там кончиться где-нибудь, в благополучных этих странах таких и так далее. И когда начались вот эти все беженцы и все, что дальше… То есть что-то там заканчивается, в этой старушке-Европе и что-то мы никогда больше не увидим таким, каким привыкли видеть в туристических буклетах, фильмах, глянец весь этот, конечно, он останется, и архитектура долго простоит, но это же ведь люди, поле, вся культура, все смыслы, коммуникации, масс-медиа и так далее, то есть что-то, наверное, безвозвратно меняется, и это движение времен…
Да, вот мы его наблюдаем. Про творчество хочу поговорить немножко. Так случилось, что вы ведь в очень разных сферах работали и, как мне представляется, от самой свободной — музыки до самой такой, навязывающей себя — видео, когда картинка, и ты ее уже не можешь поменять, но это я говорю с точки зрения человека воспринимающего, когда человек слушает музыку, тысячи людей одну и ту же музыку, у них тысяча образов возникает, и тысячи людей смотрят картинку, она у всех одна, поэтому вот на спектре свободы, на мой взгляд, с одной стороны — музыка, с другой — телевидение и все, что с видео связано. А вот с точки зрения того, кто создает, вот эта свобода, она также ощущается, что здесь ее больше всего, когда ты за инструментом и перед… и когда ты картинку — или по-другому?
Для меня — я музыкант-любитель, сразу говорю…
Вы всегда это подчеркиваете.
…при всех каких-то там микродостижениях или поощрениях. Для меня в музыке — да, я наиболее свободен, я там как-то отключаю вообще мозги, я поражаюсь тому чуду, которое происходит, как это все рождается, откуда, то есть я как и наблюдатель, и участник, и посредник вот этого, то есть для меня это непрерывное творимое чудо, и тоже оно, как дерево, оно вырастает, я не знаю, как это происходит. А телевидением я давно не занимаюсь так вот, что называется, с большой буквы телевидением…
Но вам же понятен механизм, он не поменялся, в общем…
Да, мне понятен, что называется, алгоритм, и там так: в момент рождения идеи, образа, какой-то придумки — это полная свобода, это всплеск, хотя, может быть, этому предшествует тугодумие долгое, размышление и страдание, но потом то, что рождается, это очень свободно. А потом технология, вот процесс реализации, общение с людьми — это уже и насилие над собой, иногда над людьми, иногда их насилие над тобой и так далее, то есть это такая вот школа жизни. Но тут, как говорится, неважно, чем ребеночек занимается, главное, чтобы он с хулиганами не связался и здоровенький был, так и здесь: можно телевидением заниматься, можно таксистом быть, можно буфетчиком — неважно, то есть это та форма, в которой ты проходишь школу жизни, взращиваешь свою душу. Все равно ты должен накопить, сдать все эти экзамены, не здесь, так здесь, поэтому я не знаю, я ответил на вопрос или нет…
Вы ответили на вопрос, просто есть его немножко такое ответвление небольшое, мне очень интересно тоже. Вот, скажем, я и читал и спрашивал, когда приходили ко мне писатели, они часто о процессе творчества говорят, что иногда непонятно, вот кажется, что тебе диктуют, что это вот «оттуда» (указывает вверх). А вот музыканты — но, правда, это были в основном наши рок-музыканты, — они сразу начинают говорить, что тут может «оттуда», а может и «оттуда» (указывает вниз). А вот у вас как с этим, причем с разными, скажем, телевидение — откуда? Или оно как-то на горизонтали находится?
В данном случае человек сам — фильтр какой-то, он — печень, что ли, я не знаю, и он должен «фильтровать базар», что называется, и понимать: вот это подсказано «оттуда», а это «оттуда» (показывает).
А бывало ли у вас, когда вы это чувствовали, что это вот идет прям?..
Бывало, может, я не приведу сразу какой-то конкретный пример, но несомненно, это бывало, и это как нашептывание, какое-то искушение, искус. И мы говорим, не хочется произносить: «черт дернул», что называется, такие вещи — ты это чувствуешь, а потом, может быть, идешь на попятный, как-то компенсируешь или это, если речь идет о телевидении, вырезать, поправить, смикшировать и так далее. У меня был такой случай поучительный, может быть, он как раз относится к первому ответу или ко второму: последний выпуск, который я делал, «Веселых ребят» был на тему: «Я и другие», точнее: «Я и другие я», «я» — большое и другие «я» такое маленькое. И он строился методом скрытой камеры, я снимал около сорока эпизодов — на улице, в подъездах, в квартирах, в общественных местах, и смешные провоцированные персонажи, провоцировавшие прохожих, на нестандартные реакции — типа бабули, которая тащила гири по Арбату, пыхтела такая в ботиночках «прощай, молодость», такая в платочке, ну совсем, и комментарий такой был: «посмотрите какой черствый народ, тяжело пожилому человеку, никто не поможет», такая пародийная дидактика. Парашютист, который шел, свалившись с неба, он просто он с неба свалился, ни паспорта, ни документов, голодный: «не могу ли я у вас просто остановиться, пожить, покормите, посплю, перекантуюсь и потом поеду дальше». Множество способов показать нашу закрытость, озлобленность, осторожность, зашоренность и так далее. Ну и комментарии, конечно, какие-то скетчи и музыкальные клиповые там были, большая такая двухчастная программа. И я подумал, что вообще таким апогеем программы была огромная голова в небе, которая поднималась, такая лысая голова — там еще была тема бильярда, это такой оживший бильярдный шар, и он возникал над улицей, на Арбате мы снимали, в голубом небе, и он с ними разговаривал, он говорил: «Здравствуйте…» А люди на улице спрашивали: «Здравствуйте, вы кто?» Причем парадокс был в том, что мы когда снимали, люди реальные-то не видели, что есть голова, а мои подставные, массовка, они разговаривали, зная, что там голова и что она говорит. Поэтому на них смотрели, как на сумасшедших, а диалог был такого вот большого «я» какого-то, всеобщего сознания и в меру своего тогда понимания, где перемешано было все: эзотерика, христианство, буддизм, может быть, ноосфера, Вернадский, все, что угодно. Он говорил: «Возлюби ближнего», «Все суета сует», «Куда мы спешим» и так далее. И мне пришла в голову идея, что, вообще, я соприкасаюсь с такими вещами, что надо бы перед программой, может быть, сказать такое вступительное слово. Придумал такую «шутку», знаете, в кавычках, что как будет здорово, что перед началом программы появится батюшка, священник, я еще не знал, настоящий или актер, думаю: ну как-то актер, наверное, настоящего если пригласить, и он просто скажет — а диктор перед этим, диктор центрального телевидения, скажет: «А сейчас программа «Веселые ребята», вступительное слово протоиерея такого-то», и он появится и скажет: «Ну, с Богом» — вот это будет вступительное слово. И мне показалось, что это как-то будет и глубоко, и таким эпиграфом каким-то духовным — в меру моего тогдашнего понимания, — и юмором, в то же время, и в меру тактично. И когда мне привезли на съемку настоящего священника, батюшку, в огромной студии, и я подошел, увидел духовное лицо в возрасте, я понял, что у меня язык не повернется сказать: «Знаете, у нас то-то, то-то, сейчас вы скажите “С Богом!” да и все…»
…и идите с Богом.

Да, и я так, потихонечку не то чтобы сдулся, но я уменьшился, что-то такое осознал. А он стал интересоваться, что за программа, я ему стал рассказывать, и через этот рассказ сам лишний раз понял вообще, что это за программа и про что, что я хочу сказать и почему я как-то страдал в те годы, что-то там было суммировано в этом выпуске. И он, вы знаете, что получилось, ему очень понравилась эта вся идея, он все это выслушал, и мы сняли его монолог, такое напутственное слово, он, конечно, не сказал, перекрестив перстом экран: «С Богом!» Но он, по сути, благословил программу. Вот я не знаю, может быть, это был единственный вообще в истории советского телевидения атеистического и материалистического случай, когда священник благословил программу.
Удивительно.
Даже не меня, а вот этот посыл, вот этот вектор, что ли. И у меня не повернулась рука поставить это в кадр, это было и пространно достаточно, и ясно, что неуместно, но вот этот факт остался в биографии передачи «Веселые ребята».
Потрясающе.
Я, пожалуй, может, даже второй раз в жизни это рассказываю.
ТЕРПЕНИЕ
Вы и сегодня сказали, и раньше часто повторяли, что вы и быстрый, и медленный и у вас не получается средних дистанций, — это про терпение или про что-то другое?
Отчасти про терпение, да. Тут еще терпение и смирение, что первично, я иногда путаюсь, иногда мне кажется логично, что да, конечно, сначала терпение, а потом смирение, а потом читаешь где-то: нет, оказывается, наоборот, сначала смирение, потом терпение. Но это все-таки разные вещи, но, несомненно, у меня дефицит терпения во многих вещах и катастрофический пробел со смирением. Но опять-таки в каких-то других вот жизненных вещах и вехах я понимаю, что по-крупному у меня просто огромное оказалось терпение на какие-то вещи и смирение на некоторые другие испытания, которые я прошел, которые я даже не заметил, но, оборачиваясь назад, понимаю, что я… как клык мне стесал кто-то рашпилем и у меня нет того какого-то, как мне казалось, драйва, посыла и так далее, а из этого выросло что-то более глубокое и новое в жизни и новые качества личности, что ли. А во многих вещах, конечно, я ужасно нетерпелив. Но вот здесь терпение и терпеливость, все-таки это разные уже категории терпения.
Разные, да. А вот если не про такие… хотя, видите, как интересно, очень часто получается, что мы можем сказать, что мы, с одной стороны, очень нетерпеливы, а с другой стороны, что-то так терпим, что сами удивляемся. А если, смотрите, про терпение не личных качеств каких-то, не личное, а терпение как допустимость — недопустимость чего-либо? Мы вот пока с вами практически не говорили про юмор, что даже немножко странно, наверное, Но я не могу вас не спросить, я, когда готовился, смотрел, интервью ваши читал, где-то только мелькала эта тема, мне все-таки интересно поподробнее узнать: вот современный юмор и то, что считается топом современного юмора, я понимаю, что это зыбкая почва — говорить про конкретные программы, людей, поэтому на ваше усмотрение, но все-таки, если я так в лоб спрошу: вот «Камеди Клаб» — это смешно, это талантливо, это терпимо в этом смысле?
Для, может быть, поколения, которое уже взрастает в этом поле, там другие уже у них понятия и уровни терпимости. Вообще была такая фраза: «Я совершенно не выношу тех, кто нетерпим к людям, я не толерантен к чужой нетолерантности». Это вообще уже в этом круге закодировано. По сути, многие сторонники толерантности, они заранее уже обречены на нетолерантность к нетолерантным, это как марш несогласных с несогласными давайте сделаем, а потом еше в третью производную, в четвертую производную. Ну, конкретно про «Камеди»… Вы знаете, если вынуть из времени, если промыть под душем, там очень много талантливых ребят, это несомненно, им даны дары, таланты. Как они ими пользуются и какой «соус», если, выражаясь кулинарно, что из этого приготовлено или в каком это поле существует культурном, идейном — это другой вопрос. Ну и подделки тоже есть, несомненно, когда дерзость заменяет талант, когда молодость заменяет талант, потому что это огромная фора, просто гормональный вулкан, который что-либо делает, и ты не оторвешься... Это у Ильфа есть фраза такая, вообще «Записные книжки» Ильфа — это, конечно, кладезь. Так он записал: «Низменность его натуры проявлялась столь бурно и открыто, что его можно было даже за это полюбить». Очень во многих случаях иногда видишь подобное.
А если говорить про аудиторию, вот, продолжая эту тему, вы как-то сказали тоже в интервью: «Мы потихонечку расходились с телевидением, в какой-то степени и со зрителем расходились уже». В другом месте вы сказали, что «сейчас я живу, не чуя под собой аудитории», перефразируя известное выражение. А вот как сейчас, как вам кажется, вы чувствуете аудиторию, зрителя, слушателя, вы готовы его терпеть, зрителя в этом культурном… вам есть о чем с ним говорить?
Знаете, наверное, такие остались для меня… я массового зрителя уже, несомненно, не чувствую, я не рискнул бы вот так, что называется, на миллион, потому что те программы выходили, я, мне кажется, как локатор, чувствовал…
Хотя тогда были аудитории, которых сейчас ни у кого нет, это же были...

Да, это были огромные аудитории, но я чувствовал себя частью этого поколения и всего нашего этноса и так далее. Знаете, я такой человек-капустник иногда, мне очень часто поручали, а капустник это что? Это такое, что сегодня, что сиюминутно, вот в этом раскладе, для этих людей, для этого коллектива вот прямо совсем то, что их сейчас волнует, вот в этом раскладе, в этот вторник, вот после дождя, вот в 19:00 — что ты им можешь сказать? И это в каком-то смысле был такой капустник с большой буквы, что ли, со смысловым началом, с месседжем, но я это чувствовал, это вибрировало. Особенно музыкальный выпуск когда был, это была животрепещущая какая-то тема, очень наивно сейчас это смотреть, копья ломались: закрывают какое-то молодежное движение или музыку рок-группы там запрещают и так далее, или что важнее: классика или эстрада — такие совершенно наивные темы, но я чувствовал эту вибрацию. А сейчас я понимаю, что мой зритель, он сохранился, он где-то взрослел, где-то старел вместе со мной, а кого-то уже и нет ныне, но этими пятнами, такими оазисами, такими стратами где-то он сохранился, и он укоренен, и там будет это продолжаться в их семьях, будут вырастать такие же дети, которым попадутся (не про себя говорю) какие-то книги, какие-то фильмы и так далее. Это не выжжено напалмом, и оно очень здоровое и здравое. И эту аудиторию как бы, «как бы» — дурацкое слово, ну, можно и нужно, наверное, нащупывать, собирать, как ртуть собирают: она растекается, но если ее листом собирать, она соберется в единый шар такой, животрепещущий. То есть она есть.
ПРОЩЕНИЕ
Вот такой у вас есть афоризм: «Да простит нас Бог — куда Он денется».
Знаете, это писал человек, который не сидит перед вами сейчас, это писал, в сущности, мальчишка, который каламбурил… там собраны какие-то фразы тех времен, когда я вообще не ведал даже, что творю. Но за написанное нужно отвечать. Там ведь написано «бог» с маленькой буквы, если я не ошибаюсь?
Возможно, я, честно говоря, не отфиксировал.
И сейчас я понимаю, что я тогда так об этом и размышлял. Но некоторые вещи интуитивно оказались верными и несмотря на то, что…
Я, собственно, Андрей Гарольдович, и хотел спросить: если убрать эту форму, хотя я не очень люблю это деление на форму и содержание, это такая искусственная аналитическая процедура, которая живую ткань разрывает, но с другой стороны, я вопрос-то не успел задать: а сейчас-то, как вы думаете, — простит?
Это мы же опять к надежде возвращаемся.
Ну да, наверное.
Надежда — огромная вещь, у меня, может, самая главная, меня много раз спасала надежда, укрепляла, сподвигала. Поэтому у меня есть на это надежда. При всем величии и наличии Творца и страха Божия, но надежда на Его прощение, милосердие при том, что вообще натворило человечество, — как Он будет судить нас, кого куда? Я не касаюсь этих тем, что все будут прощены или не все будут прощены, ересь это или это надежда. Ну что-то в нас не умирает, вот надежда, если человек хочет идти, то сказано: прощать нам до семижды семидесяти раз, может быть, и нас тоже в этот очередной раз простят. Так что надеюсь.
Это ведь как-то связано, то, как мы прощаем, собственно, мы даже в молитве Господней об этом говорим: «остави нам долги наши, как и мы оставляем», даже, может быть, не всегда осознавая, что мы сейчас произносим, что мы просим себе прощения такого же, которое мы готовы другому. Вообще, для меня, я уже про это говорил не раз, самая тяжелая тема — обычно считается, что любовь, но любовь, она просто какая-то вообще тайна, а прощение — это то, что просто тяжело, вот мне кажется, что мы до конца и не умеем, и не понимаем, что это такое, и не понимаем, говоря, что мы умеем прощать, не понимая, что не умеем. Я вот насчет себя открытия все время вижу в себе, что я, как мне казалось: что, я не могу простить? Оказывается, не могу. Вот у вас как?
Я думаю, мы действительно просто сами не можем, нет такого волевого усилия: вот напрягся — и простил, хочется мне дальше шутить, природа сатирика уже дальше ведет, но я остановлюсь. То есть напрягся — и простил, нет, сказано же: «человекам это невозможно, Богу же все возможно». То есть мне кажется, что через таинства что-то в тебе изглаживается, и твое вот даже намерение — оно зачтено и неведомым образом что-то в тебе, не мгновенно, а исподволь, потаенно так меняется, что ты потом понимаешь, что ты простил. Ты не делал это осознанно: так, ну ладно, всё — простил. Этого не может быть, все в природе непрерывно, нет изломов, это в цифровом мире все уступами, изломами, пикселями, лесенкой, это же подделка. Я всегда привожу в пример разницу между звуком настоящим, так называемым «аналоговым», и цифровым, хотя технически с цифровым удобнее работать. Вот эта волна, синусоида цифровая, это методом апроксимации просто столбики, это такие столбики, если к ним близко подойти, то это такая маленькая-маленькая лесенка, но наше ухо, наш глаз может это различить. А аналоговый звук – это непрерывная кривая, сколько бы ты ни приближался к ней это будет лекальная кривая, математически как-то описываемая. Поэтому там подделка, а здесь вот это настоящее. Также изображение, живое изображение: пятнышки, но пятнышки — какие-то переливы красок, где ты не сможешь разделить дальше где, на молекулярном уровне, но уже даже и молекулы — это непонятно. А пикселизованный, цифровой мир, даже если миллиарды пиксель, то ты потом увидишь, что это из квадратиков, прямоугольничков созданное, то, что глаз не может различить и даже лучше, чем настоящее. Вот ведь в чем, дьявол в деталях, мы говорим, вот она, подделка. Поэтому это да, это не цифровое, живое.
Какой юмор непростителен? Есть же разные точки зрения, кто-то говорит, что — вот мне, например, кажется, это такой разумный подход, — что шутить можно над чем угодно, но не когда угодно, вот «в доме повешенного не говорят о веревке» и так далее. Кто-то говорит, что в принципе есть вещи, которые для, по крайней мере, насмешки, табуированы — тоже вот, мне кажется, как человеку верующему это понятно. Вот вам, как вам кажется, где граница? Мы сегодня уже несколько раз к этому подходили уже с разных сторон: что не терпит осмеяния и как это определять?
Там отчасти, наверное, как вот эта известная мысль, что ты ненавидишь грех, но любишь грешника, так и здесь: может быть, ты можешь высмеивать в этом порок, но в конкретном его воплощении ты должен быть тактичен, бережлив и любить, сострадать тому, кто является носителем, что ли, этого. Но так вот просто сказать, что вообще табуирована сама тема — мы будем лицемерить, потому что мы знаем, что есть какие-то защитные реакции в нас, то есть такой юмор, в котором мы смеемся, но ясно, что мы смеемся не над человеком каким-то, не над той или иной убогостью, а мы каким-то образом, в общем, это сублимируется, и мы защищаемся, какая-то разрядка, что ли, от этого. И опять-таки грань очень тонкая, то есть можно, вплоть до того, что даже одну и ту же фразу или шутку может один произнести — и это будет кощунственно или вульгарно, глумливо, а другой человек освятит — но не хочется такое слово употреблять, хотя бы окультурит, что ли, ее своей харизмой, своей какой-то этой манерой, и ты считаешь какие-то совершенно другие слои в этом. Поэтому это очень штучно, конкретно, нельзя сказать: вот эту тему совсем мы не трогаем. Иногда, вы знаете, даже такая есть эстетика карикатурных человечков, когда что-то изображается, и там человечки. Если мы нарисуем маслом реальных персонажей в той или иной ситуации, то многие карикатуры превратятся просто в ужас, в глумление, в садизм, я не знаю, бог весть во что. Поэтому это такая мера условности, вся вот эта эстетика, то, что какой-то росчерк пера на салфетке, там что-то схвачено, как только мы это высечем в мраморе, будет несоответствие формы и цели.

Тут знаете, есть какой поворот вот этой темы, как мне кажется, на котором я тоже со многими гостями на эту тему беседовал и сам все время размышляю: вот это буквальное восприятие искусства и художественного, которое приводит к возмущению порой, ну или к неверному, тот знаменитый лотмановский анекдот про то, как человек бежит спасать Дездемону во время спектакля — это свидетельство не эмпатии, как сейчас бы сказали, а непонимания природы искусства. Но с другой стороны, я, находясь в нашей сегодняшней реальности, вижу, что ничего с этим не поделаешь, с этим буквальным восприятием. Можно говорить про воспитание вкуса, можно говорить… когда вот прижимаешь творцов: «а где граница, где не то чтобы буквально, где вот там, где можно обижаться, а где нельзя, условно говоря?» Они говорят: «Ну это вот должны решать те, кто посвященные». Но так никогда не было и так никогда не будет. И мне кажется, что эта проблема реакции на художественное, она, с одной стороны, вы абсолютно правы, сказано разными людьми будет по-разному, но еще и восприниматься будет всегда по-разному, даже вот тот, который вроде бы нормально произнес, будут люди, которые примут по-разному, и я думаю, что эта проблема нерешаема в принципе, в том смысле, что сделать так, чтобы все были довольны, практически невозможно.
Да, скорее невозможно. Все так дуалистично, все так… вот как повернешь. Вот, допустим, вода, мы говорим: вода, она же мягкая, она текучая, она жидкая, она форму какую хочешь ей придашь и так далее. Но опять, как посмотреть. А если тело падает на воду, то оно разобьется как о бетонную плиту об эту же воду или: хорошо, а какая вода, а если ее заморозить, то это лед, понимаете. Тоже у меня была фраза: «Я такой белый и пушистый, — говорил снег, лавиной сходя на горный поселок». Опять, как посмотреть, сколько взять, где применить, о чем мы говорим, можно просто утонуть в непрерывном многословии, словоблудии, суесловии и так далее. То есть мир слов… это как те же опилки, опять-таки, нужно магнитное поле.
ЛЮБОВЬ
Вот мы в начале нашего разговора уже сказали про вот это открытие себя заново. Как вы думаете, вот любовь — это состояние открытия себя заново?
Знаете, в некоторых языках, я знаю, что для слова «любовь» несколько существительных. У нас вот оно одно, поэтому о какой грани любви или с какой буквы, в каком проявлении мы говорим? Я думаю, что да, это какая-то мобилизация себя, это открывание каких-то глубочайших своих внутренних дверей для всего, чего-то огромного, что ты в себя впускаешь. Но для меня не этот аспект важен, мне кажется, любовь, если говорить в христианском понимании, мне кажется, это созидающая сила притяжения. Вот если мы говорили о вере, как о структурирующей какой-то основе, на которую силовые линии выстраиваются, а вот чтобы эти опилки… хорошо, не опилки, а молекулы… вот перед вами сидит соединенная в определенном порядке последовательность углерода, азота, кислорода. Какого рожна они вот соединились вместе, что их держит рядом друг с другом? Любовь — это притяжение событий, людей, чувств, мыслей, слов, то, что соединяет, творит, животворит. Тоже чего-то я сегодня зацитировался…
Это очень хорошо.
У меня был такой как словарь, я пытался каким-то понятиям давать определения, толкования, замахивался даже на такие какие-то: «Любовь – это кровь Бога» — вот так вот у меня, почему-то мне показалось, что вообще в универсуме все и есть — Бог, Бог — это все, а все — это Бог, но Его кровь — это любовь, она движет и переносится, создает… лучше лишних слов даже не говорить. Во всяком случае, вот это соединяющее, притягивающее, держущее событие, и без нее все распадается и разрушается. Или возможны подделки, когда соединение, как скрепить дерево шурупами, ветки привинтить шурупами, листья приклеить клеем — а оно неживое, и оно расти не будет. Автомобиль если ты поцарапал, он вот постоит, царапина не зарастет, а на руке почему-то зарастет, что это такое? А это любовь, вот как ни странно, это такая сила, такая форма энергии, осмысленной, созидающей, в которой животворит, каким образом, мы не понимаем. Как можно положить два тела рядом, вот этот будет живой, а этот неживой, что там такое? Что есть душа? Тоже, опять, вы меня потом порежьте, пожалуйста…

…фигурально выражаясь.
Человек — это создание, в которое Бог вложил всю Свою душу. Но здесь просто как творец, который творит, он создал скульптуру, картину, кто-то в фильм вложил свою душу, а мы вот такое же творение, в которое, в нас Он вложил всю Свою душу, но мы такую маленькую часть этого вмещаем, и это уже наши проблемы и наша беда, что мы так мало вмещаем, а способны и дано нам вместить полностью это.
А вот чтобы вам было хоть чуть легче, можно я вас процитирую, а то вы переживаете, когда вы себя… У вас есть замечательный афоризм, мне нравится, по крайней мере, очень: «Труднее всего возлюбить не друг друга, а враг врага». Он с таким христианским понятным смыслом. А вот у вас бывали в жизни ситуации, когда это переставало быть такой красивой абстракцией, когда вы понимали, что не получается или что нужно, вроде как положено, а это вот враг, в общем?
Слаб я, человек слабый, поэтому скорее другие стадии этого — смирение, может быть, что, если этот человек, ты вынужден с ним общаться, по работе или в творчестве, в каких-то обстоятельствах, хотя бы смириться или хотя бы терпеть его, стараться гнать от себя лишние мысли, помыслы какие-то недобрые в этом отношении. И это действует, потому что если мы помысл в зародыше душим, то уже дальше его нет и в слове, а дальше нет и в деле. Но конечно, случалось, все мы живые люди. Но трудно-то не возлюбить, а трудно не воспринять как врага, как оппонента, противника, не соответствующего твоим критериям какого-то человека, представителя. Поэтому если он для тебя не будет врагом, то уже и возлюбить легче, это автоматически, он уже соответствует твоим представлениям.
Но а как не воспринимать, если он говорит про вас неправду? Я просто сейчас, чтобы сформулировать из своего опыта, мне приходится сталкиваться: люди, просто понятно, что сознательно врут, не имея никаких оснований. Меня это, скажу эвфемистически, сильно расстраивает, и у меня не получается к ним хорошо относиться.
Но есть же слово такое тоже, и это не пустое слово: «бесит», меня бесит, выводит из себя и так далее. Нас дергают, да, чтобы мы и дальше, как комары, чтобы насосались этой нашей темной энергией, упивались нашими некрасивыми поступками, помыслами и так далее. Поэтому сдерживаться, максимум того, что мы можем делать в силу наших малых (извините за тавтологию), сил — сопротивляться. Если ты не можешь делать добро, хотя бы не участвуй во зле. Мне кажется, что, когда толпа устремляется назад, стоять на месте — уже немножко означает идти вперед. Поэтому так и здесь, хотя бы не распалять себя, отгребать, много есть таких слов из лексикона христианского: дистанцироваться, охлаждать свои страсти всячески, то есть в меру своих сил сопротивляться. Но опять-таки, без Божьей помощи слабы наши усилия, поэтому…
А про книжку расскажете свою?
Про книжку, вы знаете, да. Она просто чем показательна: когда я в начале сказал, что я так вот создан из противоречий или таких полюсов. У меня сама собой сложилась вот эта книга, потому что перед ней долго не выходили книги, я занимался другими всякими проектами, и накопилось, и я в привычном для себя таком жанре — много коротких миниатюр, думал: ну вот я опять перемешаю так это все, и оно сложится — здесь короткое, здесь длинное, здесь смешно, здесь серьезно, здесь философское, здесь сладкое, здесь горькое, ну так вот, что я вообще делаю осознанно и в предыдущих книгах всегда среди каких-то коротких таких шуточек иногда какую-то горчинку или какую-то раздуминку подмешиваю. Но оно непопулярно у широкого читателя, потому что: «что ты грузишь» — сразу начнут, «ну зачем ты здесь портишь, вот у тебя же вот это так хорошо получается». Но это часть моих мыслей, часть моих страданий, я не хочу искусственно это отсекать и фильтровать. И вдруг само так сложилось, я думаю: сделаю двухстороннюю книжку и с одной стороны помещу, условно, что-то мелкое, такое вот сиюминутное и смешное, а с другой стороны — что-то серьезное, возвышенное и так далее и концептуально это разделю. Так и получилось, она и называется: «Цыпочки и корточки». И я в предисловии поясняю, что на корточках я сижу и через увеличительное стекло могу насекомых в травке, вот эти миниатюры какие-то, в которых, может быть, смысла столько, и жизнь-то их, мошки, кузнечика, жизнь коротка. А на цыпочках вот тянемся к вечному и к звездному, и здесь философские какие-то, мировоззренческие вещи. И даже в середине я сделал встречу этих двух авторов разных, как будто они такие разные, но они очень хорошо друг друга знают, и они так иронизируют, один у другого спрашивает, а тот ему отвечает, даже сверстано таким образом.

Класс! Спасибо большое, у нас еще финал, Андрей Гарольдович. Я хочу вас попросить поставить знак препинания вот в каком предложении. В общем, знаете, я, как правило, стараюсь формулировать вопросы таким образом, чтобы я не понимал, как гость ответит. Сегодня мы уже чуть-чуть этой темы касались, и я, наверное, примерно понимаю, куда вы можете склониться здесь, но тем не менее все-таки задам этот вопрос. Вот представьте, что вам сегодня предлагают запустить, как принято говорить, новый проект, неважно — телеканал, радиостанция, в «Ютьюбе», в «ТикТоке», где вы абсолютно свободны делать все, что вы хотите, юмористический проект, но он должен быть, как сейчас говорят, «ки-пи-ай», он должен быть для широкой аудитории. «Согласиться нельзя отказаться» — где вы поставите знак препинания?
Именно для широкой аудитории?
Да.
Условно говоря, прайм-тайм центрального канала?
Условно говоря, да.
Но вы же не говорите, какой проект, — делай, что хочешь?
Что хотите, да.
А я отвечу вопросом на вопрос. Поскольку генезис-то у этого вопроса «казнить нельзя помиловать», то а как вам задачка посложнее: «Казнить нельзя, помиловать нельзя»? Вот это, пожалуй, из этой серии, поэтому сейчас я вам не отвечу. Эмоционально вроде бы что-то во мне говорит: «согласиться, нельзя отказаться», вроде такой шанс, а ментально понимаю, что, наверное, не то место, то есть это должно быть чуть-чуть в другое время, чуть-чуть в другом месте, но двери не закрываю, повторяю, вот так вот, действительно, пока «согласиться нельзя, отказаться нельзя».
Спасибо большое. Это был человек играющий — Андрей Кнышев. А мы продолжим писать парсуны наших современников ровно через неделю.
Фотографии Владимира Ештокина








