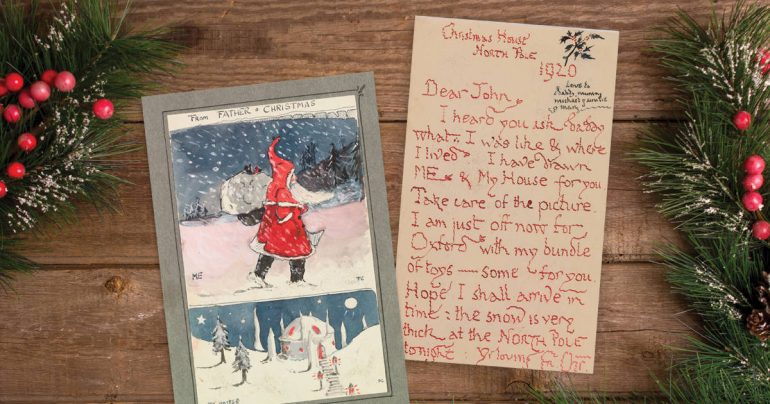Что значит быть «ищущим человеком»? Существует ли истина в исторической науке? Как справляться с унынием? И почему это грех? Что общего у Пушкина и Чехова? Что такое европоцентризм? Почему важно прощать? И как меняется любовь в разные эпохи?
«Парсуна» — авторская программа на канале «СПАС» председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды.
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать «парсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Наталия Таньшина. Здравствуйте, дорогая Наталия Петровна.
Здравствуйте, Владимир Романович. Мне очень приятно быть здесь.
И мне очень приятно. У нас в первой части, в прологе один вопрос, он постоянный. Как сегодня, здесь и сейчас, вы бы ответили на вопрос, кто вы?

Наталия Таньшина
Доктор исторических наук. Профессор кафедры всеобщей истории Президентской академии. Ведущий научный сотрудник Московского государственного института международных отношений.
Когда я узнала об этом вопросе, первой в голову мне пришла такая мысль, что я бы сказала, что я человек ищущий. Потому что, мне кажется, вот это всё то, что сопровождает меня всю жизнь, ну, может быть у любого человека. Хотя я не знаю, может быть, есть такие счастливые люди, которые родились — и они уже сразу знают, кто они, что они, кем они будут, что они будут делать, что надо делать. У меня как-то никогда такого не было. И я всегда ищу. И это касается, наверное, самых разных аспектов жизни. Это не только, наверное, профессия, хотя у меня такая профессия, когда мы постоянно учимся. И это касается историка, это касается преподавателя. То есть мы постоянно ищем. И знаете, вот сейчас мне эта пришла в голову мысль, это, кажется, Марк Блок или Люсьен Февр, я сейчас уже забыла…
Кто-то из коллег…
Да, кто-то из коллег из школы «Анналов», вот кто-то из них прекрасно сказал, кажется, Люсьен Февр: «Историк не тот, кто знает, а тот, кто ищет».
Да-да-да, это Февр.
Потому что ведь, даже если применять к профессии, у историка часто спрашивают: а вот скажи, там в каком году или что ты думаешь. Но мы же не ходячие энциклопедии, хотя есть и такие. И поэтому человек, историк и вообще человек, он всегда ищет, он пытается открыть для себя что-то и вообще познать жизнь. Потому что вот мне в этом плане близок, наверное, подход экзистенциальный — Сартра, и не только, французские экзистенциалисты, они говорили ведь, что человек не рождается уже как вот какой-то такой готовый проект. Он должен обрести свою самость. Он должен стать человеком. А это как раз то, над чем мы работаем на протяжении всей своей жизни. И это касается и отношения к себе, и отношения к миру, отношения к Богу, отношения к близким, отношения к профессии своей. И еще мне в этом плане импонируют слова, которые приписывают Леонардо да Винчи, и он говорил: больше знать и больше любить. Потому что да: чем больше мы что-то знаем, тем больше мы это начинаем любить. И с другой стороны, наоборот: чем больше мы что-то любим, тем больше мы стремимся узнать об этом. И это, подчеркиваю, касается абсолютно самых разных сторон жизни человека.







Скажите, пожалуйста, если попытаться нарисовать процесс этот поиска, сколько там будет вех важных, которые либо меняли направление движения, либо, так сказать, глубину проникновения и так далее? Вот с чем они будут связаны?
По окончании института я не знала, чем я буду заниматься дальше. То есть, поскольку я окончила педагогический вуз, я должна была идти в школу, по профессии. Но я как-то не то чтобы не была готова идти вот прямо сразу в школу, потому что мне хотелось учиться дальше. Мне хотелось познавать. Хотя понятно, в школе, обучая других, мы учимся сами, в школе, в вузе. И преподаватель, будь то школьный, будь то вузовский — это все равно человек, который всегда ищет. И чем больше мы, наверное, обучаем, тем больше мы сами узнаём, а кроме того, тем больше мы сами учимся. Потому что вот я учусь всегда у своих студентов. И каждый раз на занятии, в ходе наших бесед, разговоров я для себя узнаю, ну либо узнаю что-то новое, либо их какие-то, казалось бы, простые вопросы заставляют меня на что-то обратить внимание, то, что я не видела. И вот как раз по окончании вуза, в самый последний момент я не знала, чем я буду заниматься, и мне предложили пойти в две аспирантуры: по кафедре истории и политологии. И вот я оказалась на распутье. Потому что для меня была интересна очень и политология, то, чем я занималась в рамках вот этих проектов — Гюстав Лебон, психология толпы, вообще толпа как феномен и объект исследования. И в то же время меня всегда привлекала историческая наука, особенно история XIX века. И это тоже такой отдельный вопрос. И может быть, это тоже, знаете, такой поворотный момент, то, о чем вы говорите. Вот что мы читаем в детстве, наверное, так формируется наша последующая судьба. И так получилось, я не знаю почему, но я как-то сама читала классику, европейскую классику, причем даже не столько русскую, русскую тоже, но как-то меня тянула европейская классика. Гюго, Бальзак, Стендаль, Диккенс — вот это были мои любимые писатели в детстве. И наверное, потом только я поняла, почему я пришла к тому, что я стала заниматься изучением истории Франции XIX века. То есть, возможно, вот это тоже такой поворот — детское чтение. Это не какой-то такой рубеж, но это то, к чему я потом приду. И вот здесь этот выбор между двумя направлениями: политология и история. Хотя до этого была и литература. Потому что изначально же я вроде бы тоже училась в классе гуманитарном, история и литература, но я хотела поступать на исторический факультет. Но опять-таки под влиянием, наверное, преподавателя литературы, мне так понравилось изучать именно литературу — не просто читать, потому что я всегда читала, а вот именно работать с текстами, их анализировать, — что буквально в последний момент я резко передумала и решила, что я поступаю на филологический факультет. И я об этом рассказала только, может быть, своим однокурсникам. А те, не знаю зачем, рассказали об этом учительнице истории. И она меня закрыла просто в кабинете, вот так изнутри закрыла дверь и провела такую серьезную беседу, где сказала, чтобы я не делала глупостей, что литературой я всегда успею заняться, и она никуда не уйдет, и чтобы я поступала на исторический факультет.
А она вас убедила вот именно своим таким напором и эмоцией…
И примером.
…или все-таки аргументами какими-то.
Она убедила и аргументами прежде всего. Потому что, насколько я помню, она мне сказала, что я хотела сама тоже вот так резко поступать вдруг на биологический факультет, а не на исторический, хотя как-то тяготела к гуманитарным наукам. И она мне просто сказала именно так, что история и литература — они в любом случае теснейшим образом взаимосвязаны. И литература от меня никуда не уйдет, я всегда смогу продолжить занятия литературой и дальше, будучи историком. И вот это да, меня как-то так вразумило. А это были буквальное последние дни, наверное, перед окончанием школы и уже поступлением. И я в итоге согласилась и приняла решение поступать на исторический факультет. А потом вот такой же выбор истории и политологии — и опять-таки я как-то…
Но вас не запирали уже, нет?
Нет, уже не запирали. Потому что я уже больше общалась с однокурсниками. И в итоге я приняла решение поступать на исторический факультет в аспирантуру. Но опять-таки так получилось, что и политология, или политическая наука, и литература — вот они навсегда останутся со мной. Хотя, может быть, изначально я вообще могла бы стать, наверное, спортсменом, скорее так. Потому что я как-то… я и у меня две сестры, мы воспитывались в спортивной семье. Мои родители — они не спортсмены, хотя папа учитель физкультуры. То есть они спортсмены по духу и занимаются всегда лыжами, и занимались. Поэтому я как-то, может быть, больше тяготела именно к спорту изначально. Но потом, после определенных обстоятельств, со спортом пришлось в детстве завязать, и выбор оказался иным.
Очень интересно, и очень такая, мне кажется, трогательная история про учительницу, потому что как важно, чтобы нам были такие учителя, которые… Это же еще и ее отношение к вам, к вашему будущему. То есть ей было не просто не все равно, а она настолько считала это важным.
Да. Ее зовут Татьяна Владимировна Ярова. И я ей благодарна…
Дорогого стоит.
Да, я вообще очень благодарна своим учителям. Потому что, наверное, всё, что во мне есть — в науке, в преподавании, ну и зачастую в человеческих качествах, — это, конечно, семья, одители, но это и наши учителя.
ВЕРА
Я прочитал в ваших социальных сетях, что вы не так давно, были с лекцией в Оптиной пустыни. А вот что для вас Оптина? Вот ваша Оптина — это что?
Очень хороший вопрос. Потому что, наверное, Оптина пустынь, она для русского человека — это место святое во всех смыслах этого слова. Для гуманитария, для историка это совершенно такое особое место. Историк — он обязательно должен побывать в тех местах, которые он изучает, потому что, наверное, для историка очень важно почувствовать дух истории, почувствовать ее на вкус, запах, ну, просто увидеть это место. Не случайно, например, Адольф Тьер, знаменитый французский историк, когда он писал историю Консульства, Империи, он побывал во всех местах битв, которые вел Наполеон, то есть ему это важно было прочувствовать. Вот для меня точно так же важно побывать в местах, которые связаны с теми героями, которых я изучаю, потому что это дает совершенно иное такое ощущение. Побывать в тех местах, где они захоронены, на кладбище, потому что это тоже особое такое ощущение. И иногда так шутливо говорят, что все историки — они некрофилы. Ну, в том плане, что вот их тянет на места, в том числе и захоронения своих героев. Но Оптина пустынь, помимо того что это для русской истории величайшее место: славянофилы, писатели, Толстой, Достоевский — то есть все, наверное, значимые имена мы можем перечислять, и они все туда тянулись. А я, кстати, не так давно впервые оказалась в Оптиной пустыни, только в январе двадцать третьего года, когда там происходила как раз конференция по Достоевскому, и владыка Иосиф — он меня любезно пригласил. Причем это была тоже, знаете, совершенно такая чудесная встреча, потому что я ехала просто на какую-то конференцию, здесь, в Москве. И раздается звонок. Звонит мой коллега из Челябинска, по Всемирному русскому собору. И говорит, что вот я сейчас нахожусь в Оптиной пустыни , с вами хочет поговорить владыка Иосиф. И знаете, для меня это было, ну, как примерно, Патриарх со мной тоже, да, будет сейчас говорить, президент на связи. И оказалось, что владыка Иосиф — он знаком с моими книгами, и он как раз пригласил меня выступить еще тогда, в рамках этой конференции. И для меня огромная честь, огромная радость и огромная ответственность выступать и бывать в Оптиной пустыни. Ну и, конечно, мне хочется оказаться там не просто с выступлением, аА чтобы побыть там какое-то время, поразмышлять, ну, как-то так остановиться. Потому что обычно люди пишут, что вот, я приехал в Оптину — и время останавливается.
Да.
Но когда ты приезжаешь туда с докладом, с выступлением, с мероприятием…
Ты все время смотришь на часы, да-да-да.
Да. Поэтому это уже немножко иная ситуация. Но атмосфера — все равно она, конечно, особая.
А вот насчет атмосферы хочу спросить. У меня был в гостях владыка Иосиф здесь. И он, как человек, имеющий опыт жизни в разных монастырях, он довольно четко сказал, что у каждого монастыря свой дух. А вот как вы думаете, вам удалось почувствовать особый дух Оптиной? Если да, то в чем он? Или все-таки вот этот формат конференции пока не позволил.
Мы не просто выступали, мы были и на службе, мы всё это видели. Мы посещали и скит. Мы были и на ферме, угодья смотрели, хозяйство. Нонаверное, можно говорить, что это государство в государстве, это какой-то такой целый мир. То есть это, знаете, это особый мир, куда ты попадаешь, и даже если ты там только вроде бы извне, но ты понимаешь, что это просто какое-то особое место. Вы знаете, бывают такие вещи, которые трудно передать словами, но это можно ощутить. Вот это можно почувствовать, почувствовать какой-то такой трепет особый, такое волнение и какую-то радость. Вот радость, может быть, — это такое первое слово, которое тоже приходит на ум, когда вот так идешь или стоишь рядом с владыкой Иосифом, сразу начинаешь улыбаться. (Смеются.)
А как вы думаете, а почему Толстой все время туда? Почему Льва Николаевича так тянуло? И я так понимаю, что и в конце жизни ведь тоже, да, уже после всех этих…
Да. И например, отец Калинник, когда проводит экскурсии, он тоже всегда об этом рассказывает. И рассказывает о метаниях Толстого, рассказывает, как он трижды подходил уже в последний момент и не мог переступить. Но для меня Лев Николаевич Толстой — это тоже фигура такая особая. И я к нему отношусь так очень-очень неоднозначно. Понятно, что есть Лев Николаевич Толстой писатель, есть человек. И наверное, надо быть самим сопоставимым Толстому хотя бы в чем-то, чтобы понять его и чтобы судить о нем. Потому что я думаю, что это нельзя: вот, мы будем сейчас судить. Мы будем просто, может быть, думать и размышлять, сопоставлять как-то. Но вот я сама для себя, конечно, не понимаю во всем Льва Николаевича и его вот эти метания, его поиски. Ну, потому что он сам для себя, я думаю, не очень всё понимал, совсем не понимал, и, может быть, даже под конец он совсем запутался. Опять-таки есть такое мнение, что, если вы не хотите разочаровываться в человеке, в писателе, в художнике, в артисте, не изучайте его биографию, не читайте его дневники. И вот особенно если почитаешь дневники Льва Николаевича и Софьи Андреевны, то огромное количество мыслей, эмоций это всё вызывает. И я знаю, что люди по-разному реагируют на эти дневники Льва Николаевича и Софьи Андреевны. И люди, как правило, занимают либо ту, либо другую сторону. Кому-то ближе Лев Николаевич, кому-то Софья Андреевна. И я думаю, что Лев Николаевич пришел в Оптину как к какому-то такому, наверное, последнему оплоту. То есть в своем этом поиске он пытался здесь как раз найти, найти вот это спасение, обрести себя. Но ему, наверное, это не удалось, на мой взгляд.
А вот Константин Леонтьев, по-моему, говорил, что у Толстого органа нет, которым верят. Вот вам близка такая метафора в плане Толстого или не очень?
Мне это напомнило размышления Александра Дюма о русской кухне, о русской гастрономии. И он тоже, знаете, говорил: «У русских поваров нет органа, который отвечает за вкус, за обоняние».
Ишь какой.
Да, да. Потому что ему казалось, что русская кухня — она очень пресная. Ему не хватало какой-то остроты, ему не хватало соуса — то, чем славится французская кухня. Поэтому он тоже так сказал: у русских поваров что-то с органами чувств. Насчет Толстого. Он был верующим человеком. Но он настолько еще, наверное, был рациональным, он, может быть, пытался, как просветители, которые пытались соединить веру и знания, веру и разум, и, может быть, он как-то в своих поисках вознесся так высоко, что стал себя, может быть, как-то понимать выше всего сущего. И отсюда вот… чем выше поднимаешь, тем более падать.
Больнее падать, да.
Да, вот, может быть, у него как раз такая история. Но, на мой взгляд, это очень драматичная судьба Толстого как человека. Не как писателя, а именно как человека.
Вы знаете, мне кажется, и как писателя тоже. Потому что я понимаю, в каком смысле неизбежность этих разделений, с одной стороны. А с другой стороны, не вызван ли кризис человеческий, религиозный тем, что вот… знаете, Достоевскому повезло, он ушел на лучшем своем романе. А Толстой ведь после «Войны и мира»…
Да.
Ну, есть такая точка зрения, мне она близка, что он понимал, что уже не получается так, как получилось. А это же страшный кризис: ты пишешь, пишешь, а не то. Мне кажется, это связанные вещи, нет?
Ну, я думаю да, вполне. Потому что, ну, это, наверное, свойственно любому творческому человеку. И вы совершенно верно сказали: одно дело, когда этот пик — и всё, и такой прерванный полет, и человек уходит на взлете. А здесь, действительно, такая долгая жизнь, долгая творческая судьба и биография. И конечно, я думаю, что он сравнивает себя с самим собой в том числе. Ну и, мне кажется, это вообще трагедия многих творческих людей, вот это вот: исписался, когда я не могу уже это повторить, и мне это не дается, и это куда-то ускользает. И наверное, это драма, да. И только сильный человек, может быть, это может как-то перенести и пойти куда-то дальше. То есть не останавливаться на этом и идти вперед. И кстати, мой учитель, Ирина Аркадьевна Никитина, доктор наук, профессор…
Да, вы ее вспоминаете часто с теплотой.
…это был ее всегдашний такой девиз, напутствие. Она мне каждый раз говорила: вперед и выше. И при этом всегда вот так объясняла, что просто вперед идти тяжело, постоянно идти, а если еще всегда подниматься, то это совсем сложно. Но это надо, это надо делать.
Да. Святейший Патриарх последнее время часто повторяет эту мысль: вперед и вверх, да. Наталия Петровна, а вот, вы уже сказали о неких попытках, которые в нашей культуре были, взаимодействия с разными языками познания: научным, религиозным. У нас в феврале, в середине февраля, в «Сириусе» готовится большая конференция, которая будет заниматься как раз таки взаимодействием науки, искусства и религии как способов познания. Пока рабочее название — это «Диалоги об истине в науке, искусстве и религии». И я в связи с этим хочу вам такой задать вопрос. А что такое истина в исторической науке?
Очень такой хороший вопрос, Владимир Романович, и очень сложный, и методологический.
Понимаю, да.
Потому что ведь история — она наука очень субъективная.
И как вы часто говорите, все время обречена на то, чтобы переписываться все время.
Да, совершенно верно. Причем без какой-то негативной коннотации. Почему?
Да-да понятно. Новые данные появлются.
Потому что историю творят историки. Историки не находят историю в готовом виде. Они находят только какие-то документы, источники. Это могут быть тексты, это могут быть какие-то артефакты, иконы — опять-таки это тоже исторический источник. Живопись, литература, тексты любые — или не обязательно тексты. Потому что, подчеркиваю, для разных периодов развития истории человечества мы же имеем разные материалы, да.И где-то это дописьменная эпоха, и там мы вообще ничего не имеем. И поэтому историк — он те данные, которые он находит, он должен обработать, сопоставить, классифицировать, и уже на основе вот этого сопоставления данных он должен дать свою версию исторических событий. И поэтому получается, что у каждого историка будет именно своя версия того, что произошло. Потому что, даже если у нас будет одинаковый такой набор документов, источников, источников вообще, то я уверена, что версии у нас получатся разные. И поэтому у каждого историка будет своя история Наполеона, своя история войны какой-то, любого события, будь то грандиозного, будь то маленького. Кроме того, ведь историк, даже работая с документом, с источником, он же его все равно интерпретирует. И опять-таки, как говорил Марк Блок, известный французский историк школы «Анналов»…
Да, замечательный.
… «источник сам по себе нем. И он оживает тогда, когда историк начинает с ним работать». Ну, условно говоря, задавать вопросы, то есть ставить проблемы. Потому что опять-таки история — это опять-таки школа «Анналов», и Блок говорил, что главное — это гипотеза, это постановка проблемы. А там, где этого нет, там пустые какие-то разглагольствования и компиляции. Ну, или просто мы наберем каких-то фактов — и всё. И у нас получится то, что не является наукой. Потому что наука история — это, прежде всего, анализ этих фактов. И поэтому историк, на мой взгляд, наверное, никогда не придет к истине, потому что история — это процесс бесконечный, и она постоянно, историческая наука, развивается. И поэтому, на мой взгляд, историк может только стремиться максимально близко подойти к этой истине, приблизиться к истине. И может быть, в этом, конечно, и в этом история сближается с искусством…
Я как раз вот об этом хотел сказать, если позволите. Потому что вот, скажем, когда мы говорим о разнице между наукой и философией, если философию не считать в строгом смысле наукой, то одно из таких фундаментальных отличий в том, что наука стремится к объективному знанию, а философия не отказывается от субъективного. А можно тогда сказать, что в этом смысле история где-то близка и к философии тоже как к некоему синтезу научного, художественного и религиозного,
Да. Потому что историк — он в любом случае создает историю из того, что он находит. Конечно, даже когда мы пишем какие-то работы, студенты пишут, диссертанты, что метод исторического объективизма, то есть объективное изучение. Но объективно мы можем изучать именно источники, объективно и тщательным образом их верифицировать, проверять, сопоставлять, что нам об этом говорят другие источники. То есть, мне кажется, в этом плане история — она напоминает, как наука, такое расследование, вот то, чем занимаются как раз следователи. Но следователь — он какую-то цепочку раскручивает преступления, например, и он должен тоже всё сопоставить и найти ответ на те вопросы, которые перед ним стоят. Вот историк делает примерно то же самое, только в отношении исторического прошлого. Но опять-таки он не может быть абсолютно объективен, потому что он живет в обществе — он не может быть свободен от того общества, в котором он живет. И так или иначе, историк, как бы он ни старался, он свои взгляды, свое мировоззрение будет переносить на прошлое, которое он изучает. Подчеркиваю, как бы он ни стремился к объективности и действовать строго в соответствии с теми документами, которые у него есть. Потому человек — он живой, это же не искусственный какой-то инструмент такой, который бездушный, который никуда не отвлекается, вправо-влево.
А вот смотрите. У Аверинцева есть статья про Крещение Руси. Он там приводит знаменитый эпизод из «Повести временных лет» про выбор веры. Вот эта цитата, гонцы князя Владимира: вот, не знаем, на небе или на земле. И вот как решающий… И Аверинцев пишет потрясающую вещь. Он говорит: «Даже если весь рассказ вымышлен, это важнейший рассказ для русской культуры, потому что мы видим появление критерия красоты как одной из фундаментальных характеристик русской культуры, причем красота выступает здесь религиозным аргументом» и так далее. Вот, то есть я это всегда привожу как пример, отличающий культурологию от истории. Историк будет все-таки, как вы сказали, с дотошностью следователя добиваться выяснения, были они, не были в этом Константинополе, говорили, не говорили. Культуролог скажет: неважно, были или не были, вот это русская культура, она на этом стоит. И мне кажется, это верно. Тогда я так поставлю вопрос, мой вопрос вам. Тогда понятен смысл культурологического анализа. А в чем смысл определения исторической истины? Хорошо, мы добились, что они были там и этого не говорили или были и говорили. Что нам это дает? Что это меняет для понимания нас с вами?
Ну, знаете, мне кажется, тут как раз вопрос в том, что есть некий консенсус, допустим, среди историков, что вот эту точку зрения мы принимаем как наиболее достоверную, как наиболее такую адекватную, объективную. Но опять-таки это некий такой результат нашего такого консенсуса и нашей договоренности. Потому что вот вы вспомнили Крещение Руси. А возьмите книгу Милорада Павича «Хазарский словарь». Здесь же то же самое: идея о том, что произошло на самом деле, какую веру приняли. И поэтому здесь три книги: иудейская версия, мусульманская версия и христианская версия. И опять-таки каждый принимает ту версию, которая ему ближе. Ну, это в том, что касается литературы. Потому что здесь это как раз постмодерн, ну или постмодернистский роман, то есть свобода творчества. Но знаете, у нас же и в исторической науке такое было, вот как раз на рубеже веков, вот этот такой очередной постмодернистский поворот, когда разговоры о том, что объективной истории нет, что историй столько, сколько историков, потому что у каждого историка она будет своя. Что история — это наука, которая должна максимально красиво описать, вот автор свою версию произошедшего описывает, отсюда связь литературы как раз с историей. Вот эти все разговоры как раз очень активно происходили. И не просто разговоры, это подходы, концепции, которые в исторической науке обсуждались. Хотя опять-таки вот в том вопросе, о котором вы затронули, ну, или вообще какие-то ключевые вопросы, здесь как раз консенсус очень важен, потому что, знаете, есть даже такое понятие, как государствообразующий миф.
Конечно, да.
То есть мы можем не знать как-то досконально, что там произошло. А может быть, и вообще мы не знаем, что произошло. Но вот есть некие моменты, которые можно назвать мифами, на которых формируется государственность.
Как философы бы сказали, в лосевском смысле слова.
Да-да, именно в таком, на котором формируется государство, на котором формируется государственная идея. И понятно, что христианство — оно являлось основой русской цивилизации. Христианство — это та матрица, с которой всё началось, с которой начинается русское государство. И поэтому здесь для нас как раз важно, и историкам в том числе, договориться об этом.
НАДЕЖДА
Тему о надежде я хочу начать с вопроса об унынии. Скажите, пожалуйста, уныние как антоним надежды является ли вашим спутником в жизни? Знакомо ли вам это чувство, ощущение, переживание?
Ну, понятно, да, что уныние большой грех. И вообще уныние, даже если мы ведем речь о человеке атеистического воспитания, то уныние во всех смыслах — это не есть хорошо. Почему? Потому что у человека просто опускаются руки. И он может, действительно, впасть вот в ту самую депрессию, о которой часто говорят. Но, на мой взгляд, надо просто делать дело. Вот делай, что ты любишь, то, что ты должен делать, делай что должно, и будь что будет. Но, может быть, не то что «будь что будет», потому что, мне кажется, так немножко: а, неважно, что будет. Бог с ним, что там будет…
Да, красивая фраза, которую мы не додумываем до конца.
Конечно. Когда вот так начинаешь думать: делай что должно, и будь что будет, — мне кажется, надо делать, надо делать свое дело. Вот то, что ты делаешь, то, что тебе нравится, то, к чему у тебя лежит душа. Но если тебе это не нравится, ну ищи другое тогда дело в жизни.
А если нравится, но не получается?
Здесь опять-таки, наверное, смотря с каких позиций мы будем рассуждать. Возьмем, например, кальвинизм. Этика призвания. То есть человек свободен, воля его свободна как раз в выборе прежде всего профессии. То есть, с одной стороны, он абсолютно предопределен и изменить ничего не может, потому что действует догмат об абсолютно Божественном предопределении. Но в том, что касается его жизни вот здесь, на земле, тут он свободен в том, чтобы выбрать свою профессию, свое дело. Но опять-таки тут появляется этика призвания. Потому что если ты выбрал это дело, то ты должен идти по этому пути и выполнять вот это свое дело. Потому что это действительно призвание, Божественное твое призвание на земле. Ну, я говорю о кальвинизме. И вот, знаете, бывает такое часто со студентами. Они начинают заниматься какой-то темой, а потом говорят: а мне неинтересно, вот, мне стало неинтересно. Но, знаете, на мой взгляд, мне это сложно понять. Потому что, ну, мы судим по себе, да. И вот мне как раз ближе вот этот подход Леонардо: больше знать и больше любить. Потому что, когда ты начинаешь чем-то заниматься, и даже если это что-то тебе кажется сначала вообще неинтересным, но ты втягиваешься в это, ты вовлекаешься в это дело, увлекаешься, и это становится безумно, интересным. Но, конечно, речь идет о том, к чему у тебя есть какая-то предрасположенность, способности. Потому что, если я сейчас начну заниматься физикой какой-то, ну, я не уверена, что, если я буду усердно заниматься, у меня что-то там и дальше получится. Вряд ли. Потому что здесь надо учитывать какие-то способности человека, задатки, таланты. И поэтому делай что должен, и будь что будет — наверное, не совсем так. Мне, наверное, ближе опять-таки, я как-то вот больше западные, может быть, вот эти привожу примеры в силу, наверное, специфики профессии. Мне, наверное, ближе другой лозунг, ну, он по-разному звучит: на Бога надейся, а сам не плошай. Вот это, собственно, лозунг французских либералов первой половины XIX века. Франсуа Гизо, один из моих героев, который был тогда как раз создателем Общества христианской морали. Он был очень верующим человеком, гугенот, очень верующий, и он как раз пытался соединить веру и знание и веру и политику. Он считал, что политику невозможно делать человеку неверующему. То есть для него вот этот вот моральный императив — он был очень важен. То есть на Бога надейся, а сам не плошай. То есть ты и сам должен что-то делать в жизни. Я не могу говорить за любого человека. Есть, может быть, люди, которые никогда не унывают. Вот, знаете, Высоцкого я вспоминаю слова, когда «от жизни никогда не устаю». Вот мне кажется, я порой ощущаю себя очень усталой от чего-то, когда вот этот каждодневный бег, гонка наперегонки с самим собой, огромное количество дел, которые надо успеть, то иногда бывает и усталость, и какое-то, может быть, разочарование и уныние может быть, оттого что кажется, что вот, я чего-то не могу, у меня что-то не получается. Ну, это, знаете, скорее не уныние, а какое-то такое банальное нытье.
Я думал, «усталость» вы скажете.
Да, мне кажется, это вот скорее нытье, когда ты вот так начинаешь, что я не смогу, у меня не получится. А потом как-то так понимаешь, что как это не получится — надо. И берешь себя в руки…
Вперед и вверх, да-да.
Да, вперед и выше, вспоминаешь вот это. Ну, и понятно, под лежачий камень вода не течет, то есть… правильно я сказала.
Да.
То есть надо начинать, надо делать. Надо, наверное, не ждать вдохновения, ну, а просто делать. То есть не то что я, знаете, по-базаровски: надо делать дело. Но просто надо заниматься, делать то, что ты любишь, и то, что приносит пользу, наверное, людям. Потому что вот это важно — понимать, что то, что ты делаешь, оно важно и для других. Потому что, когда ты не чувствуешь какой-то отдачи и нужности того, что ты делаешь, может быть, вот в таких случаях могут руки опускаться.
Я, кстати, сейчас подумал, что вот у этой фразы «на Бога надейся, сам не плошай» в восточном ее варианте, помните, там «на Бога надейся, а верблюда привязывай». Там немножко такое нюансовое отличие. А вот вы сказали, что уныние — страшный грех. Ну, а вот, кстати, если непонятно, почему… если не в богословском таком разрезе, а вот как бы вы объяснили, почему уныние — это грех?
Мы можем опять-таки по-разному рассуждать. Суть человека в познании Бога, в познании себя самого. И если человек впадает в уныние…
Он перестает, да…
…он перестает развиваться, он перестает познавать, он перестает совершенствовать мир. И более того, он перестает, наверное, как-то и радовать других, и быть поддержкой для других. Потому что, знаете, мне как-то не близка вот эта идея: что воля, что неволя. Или вот, мне кажется, я, может быть, не совсем, да, разбираюсь в философии буддизма, но вот эта вот идея…
Да-да, вы сняли с языка, я хотел сказать, что это попахивает буддизмом.
Да. Как там: мало радуйся удаче, мало в бедствиях горюй, то есть такой вот стоицизм. Вот мне как-то это не очень близко, потому что я сама не железный человек Рахметов. Потому что человек — он существо, создание, которое чувствует прежде всего, переживает, эмоциональное. То есть мы не роботы. Вот если «что воля, что неволя», то это вот что-то такое просто атомистическое, собрание каких-то молекул — и всё. И поэтому для меня это, действительно, как-то сложно, непонятно. Хотя понятно, почему это случается. У человека могут быть сложности в жизни, что-то не получается, что-то рушится. И бывает трудно как-то не прийти в уныние и не начать всё с начала, порой вот просто с нуля. Но на то, наверное, она и жизнь человеческая, что она разная. И если бы жизнь человеческая была просто какая-то вечная нирвана, то человек не смог бы ценить, наверное, того счастья, которое он имеет. Ну, и счастье, наверное, оно не в вечной нирване все-таки.
Я часто беседую об искусстве, потому что, мне кажется, всё искусство — оно про надежду. А вот на сегодняшний день кто те авторы из художественной литературы, к которым вы чаще всего возвращаетесь? Это те же, которые из детства или как-то поменялись?
Я думаю, да. В этом плане, без всякого фрейдизма, все мы родом из детства, и то, что формировалось в детстве, сопровождает нас всю дальнейшую жизнь. Те авторы, которых я читала в детстве, со временем для меня стали как раз источниками моих научных изысканий, потому что я занимаюсь французским XIX веком, Июльской монархией. И Бальзак, Стендаль, Гюго, Жорж Санд — это всё те люди, которые жили тогда, творили тогда. И поэтому сейчас я эти тексты воспринимаю уже не просто как художественные произведения, а я их воспринимаю как источник той эпохи. И поэтому отношусь к ним совершенно иначе и совершенно иначе воспринимаю. Вот как-то нужно было перечитать «Отверженных» Гюго — и у меня совершенно иной взгляд. Или Золя. То есть я уже это воспринимаю не как тексты художественные, а как источники по изучаемой эпохе.
А вот все-таки ведь искусство — это еще… Почему искусство, как мне кажется, способ познания? Потому что мы видим, с помощью текста, который не изменился, как изменились мы.
Да.
Почему у нас письмо Татьяны к Онегину в 9-м классе вызывает одни чувства, в 25 лет другие, а в 35 — третьи. Вот есть какой-то автор, к которому вы, как читатель, изменились очень сильно?
Вы знаете, наверное, есть такой автор… Ну, я думаю, их гораздо больше. Просто как-то, уже давно, но я готовилась к передаче, посвященной Жорж Санд. В детстве я очень много читала Жорж Санд, и мне очень нравилась ее проза, я очень любила ее романы. Ну, это там сколько — 10, 11, 12 лет. И когда, готовясь к передаче, чтобы освежить всё это в памяти, я перечитала Жорж Санд, мне это показалось настолько каким-то детским, настолько каким-то простым и банальным, что у меня было какое-то такое вот даже внутреннее разочарование. Как, я так любила вот эти вещи, а сейчас я вижу, что это так вот как-то очень просто. Хотя понятно, мне это нравилось, и, как источник, это и до сих пор для меня важно. А вот именно эти впечатления, которые на меня тогда производили эти тексты и сейчас, уже, конечно, нет. Но, наверное, кто всегда на меня производит впечатление, кто мне ближе всего, может быть, по духу — это Антон Павлович Чехов. Потому что, вот… ну, к сожалению, времени, для того чтобы, знаете, вот так сесть с книжкой, у меня как-то совсем нет, и поэтому читаешь постоянно, но читаешь то, что нужно в данный момент, по научным своим занятиям. Поэтому постоянно с книгами, но книги другие. И вот просто хочется…
А почему Чехов?
У меня есть авторы, которые мне близки. Вот из французов, например, из современных, XX век, мне очень близка Франсуаза Саган. Причем это не женская какая-то проза, потому что Саган — это гораздо глубже. Это не просто какие-то романы, написанные женщиной. У нее самые разные есть вещи, и вот ее вещи мне очень близки, хотя как-то по характеру, мне кажется, по жизни, по темпераменту мы с ней абсолютно разные люди. А вот Антон Павлович Чехов мне всегда очень близок. И я готова всегда его читать, и не только его произведения, причем особенно, может быть, как-то рассказы, коротенькие эти вот вещи, но и письма. Письма Чехова, где человек раскрывается, его мысли, — вот это совершенно такая особая история. Ну, переписка всегда, возьмите письма Микеланджело почитайте — это тоже особая история. Или письма Ван Гога, письма Толстого, то, о чем мы говорили, дневники. То есть тут перед нами человек раскрывается не только в текстах художественных, хотя и там тоже он. Но вот Чехов мне как-то абсолютно близок. И Чехов, на мой взгляд, ну, понятно, классика — она всегда современна, это банальность. Но когда читаешь Чехова, создается абсолютное ощущение, что это написано прямо сейчас, вот именно в наше время, нашим современником. Почему нам близки произведения, написанные в XV, XVI веке? Потому что душа человеческая — она остается вот такой же. И человек — всегда он любит, надеется, верит. И вот у Чехова… мне кажется, мы с ним по натуре похожи. Потому что он, например, писал, что вот я вынужден писать, зарабатывать этим. А я сидел бы так вот, на палубе, пил кофе, смотрел на женщин красивых — и всё, вот он пишет. Но мне кажется, у Чехова такая светлая грусть. Потому что, с одной стороны, как-то вот так всё грустно, часто очень грустно ведь у Чехова. Он такой грустный автор. Но, с другой стороны, знаете, это какая-то элегия. Это создает ощущение чего-то очень зыбкого, ускользающего, как там возьмите «Цветы запоздалые», но очень такого трепетного и оставляющего это вот ощущение надежды. И смех, ирония, конечно, над самим собой и над всем, что происходит.
Вы знаете, я последнее время размышляю над тезисом, который как-то мне попался у разных авторов, и я как-то его все время переосмысливаю — о том, что Пушкин создает русскую литературу, и русская литература, в общем, и русские авторы, великие, величайшие, отдают дань Пушкину, но практически никто не идет… вот он ее создает — и он в одиночестве остается, на этом Олимпе, если угодно, литературном, потому что в Пушкине нет ни изломанности Достоевского, ни дидактизма Толстого и так далее. Но я вот сейчас, слушая вас, заслушавшись вашими словами о Чехове, пытался понять, а что Чехова соединяет с Пушкиным. И вот с ходу не смог сформулировать. А вы можете? Вот как-то их соотнести.
Пушкин — он поразителен, да? Потому что ты читаешь строки — и ты не понимаешь. Вот я не понимаю, как так можно сделать. Вот, собственно, из этих…
В одной строчке выразить вселенную целую.
Да, искусство. То есть Пушкин — он мог находить вот такие слова, простые, понятные всем вроде бы, но которые предельно четко объясняют всё и вся. И поэтому Пушкин, на мой взгляд, это не только поэт, но и историк, блестящий историк.
Безусловно.
И его произведения — это просто история России, история нашего народа, история государства. И может быть, Пушкина и Чехова объединяет, знаете, какая-то такая истинная красота, истинная гармония, то, к чему человек всегда стремится. То есть, наверное, это всегда стремление к какому-то абсолюту. Хотя он, понятно, недостижим. Мы можем говорить о стремлении к Богу, стремлении к абсолюту. И мне кажется, как-то и Пушкин, и Чехов, они вот в этом своем стремлении, они как-то максимально приближены к какому-то такому идеалу. А в то же время они говорят очень просто о самых каких-то важных, глубинных проблемах, вопросах. И они отвечают на те вопросы, которые ставит перед собой каждый человек. И вот, когда говорят «Пушкин — это наше всё», вроде бы звучит банально и совсем по-другому, вот «это наше всё». Но «это наше всё» — потому что каждый человек может прикоснуться к Пушкину, к Чехову, для того чтобы для себя, прежде всего, ответить на какие-то очень важные вопросы.
ТЕРПЕНИЕ
Я хочу вам предложить, цитату из Коллингвуда, английского, британского историка. «Учебники всегда описывают не то, что сейчас думают настоящие современные историки, а то, что думали историки прошлого, историки того времени, когда создавался тот исходный материал, на базе которого и были составлены учебники. К моменту включения в учебники устаревают не только результаты исторического мышления, устаревают так же его принципы, то есть идеи о природе, предмете, методе и ценности исторического мышления. …любой опыт, приобретаемый через обычные образовательные каналы, всегда оказывается не только поверхностным, но и устаревшим». Как вам такая точка зрения? И в том числе и с точки зрения того, что все-таки за прошедшие 80 лет как-то, мне кажется, скорости немножко поменялись, нет?
Да. Ну, даже XIX век — это же время, когда скорость жизни, процессы, они заметно ускоряются. И как раз часто проблема в том, что человек не успевает за этими процессами. Люди-то меняются медленно. И как раз очень часто с этим случаются такие серьезные кризисы. Возьмите процессы реформации в Европе, контрреформации. Это же как раз связано с явлением такой массовой маргинализации, когда люди теряли опору под ногами, потому что мир меняется, всё рушится, а они не поспевают за этими изменениями. То же самое XIX век, когда очень бурные такие процессы ускорения жизни. В наше время вообще всё меняется. А насчет учебников — конечно, учебники пишутся в одно время, работать по ним предстоит спустя какое-то время, и, может быть, даже работают десятки лет по тем или иным учебникам. Поэтому меняются подходы, меняются какие-то установки. Возьмите период конца 90-х годов. У нас вообще была ситуация, когда не было учебников.
Не было, да.
Или более того, учебников истории, например. Потому что учебники советские — они, конечно, устарели, и по ним было трудно учиться, особенно изучать историю, допустим, России. Ну, и историю Запада тоже трудно было изучать. Хотя другое дело, смотрите, возьмите учебник Виппера по истории Запада. Когда был написан? И этот учебник вполне можно использовать и сейчас. Или Буркхардта, например, история Возрождения итальянского. Это XIX век, да. Но мы можем эти учебники использовать и сейчас, эти книги. Ну, понятно, что наука шагнула вперед. То, что было неизвестно тогда, известно современным историкам. Это как у Тарле, у академика Тарле, которому в этом году исполнилось как раз 150 лет, как раз ведь есть вот эта фраза, он относит ее к Фрэнсису Бэкону, который говорил, что каждое новое поколение знает больше, чем предыдущие. И в этом и суть человека. Человек передает опыт.
Да.
То есть, например, каждое новое поколение животных не становится лучше, чем предыдущие.
Они заново проходят…
Лиса учит лисенка бегать, охотиться, выдра выдренка — плавать. Но каждое новое поколение обладает теми же навыками, что и их предки. У человека нет. Человек обладает гораздо бóльшим знанием. Не знаю, становятся ли люди лучше. Хотя это вечная такая идея всех мыслителей, просветителей, вот это вот вечное движение к цивилизации, к улучшению человеческой сути. И поэтому логично, что учебники могут в этом плане устаревать, что-то уходит. Даже вот сейчас, современные наши учебники истории, которые сейчас издаются, вот эта вот новая линейка учебников, и 11-й класс — он же доводится до современности, буквально до наших дней. И тут уже идут дискуссии: мы должны ли доводить учебники до современности, или их логично было закончить, ну, например, рубежом веков. Почему? Потому что каждый раз, особенно сейчас…
Ну, какая-то историческая дистанция нужна все равно, чтобы…
Да. И дистанция, чтобы отлежалось.
Конечно.
Чтобы отлежалось и было время осмыслить происходящее. Но, с другой стороны, мы сейчас, наверное, живем в такое бурное время, и у нас такие важные, кардинальные события происходят на наших глазах, что, мне кажется, все-таки справедливо вносить события сегодняшнего дня, потому что иначе кто тогда будет детям объяснять, что происходит. Хотя знаете, я так покаюсь: когда, например, я была студенткой, я даже не помню, читала ли я учебники истории. Потому что прежде всего это лекции преподавателей. Потому что когда ты слушаешь человека, ты эмоционально в происходящее вовлечен.
Ну конечно, да.
Когда ты еще это записываешь — мелкая моторика работает, и ты всё это воспринимаешь совершенно иначе. То есть вот опять-таки как Тарле. Как про него Чуковский говорил: «У Тарле не было покойников».
Да, замечательно.
Потому что для него герои — это живые люди, он их воскрешает в памяти. И собственно, мы, историки… ну, я так говорю «мы, историки», хотя я не знаю, я и преподаватель, и историк. Но для меня тоже нет мертвых. Для меня свойственно как-то так персонифицировать тех героев, которых я изучаю, делать их своими. И понятно, я привношу эмоциональный элемент. А это опять-таки тоже дискуссия. И историки считают иногда, что не нужна вот эта эмоциональность. Хотя Тарле считал, что один из главных недостатков учебника истории — это сухость изложения, потому что учебник тоже должен увлекать. И поэтому здесь важен именно человек. И вот, знаете, сейчас как раз часто студенты — и это ведь установка была уже с 90-х годов прошлого века: мол, лекции не нужны, нам нужна вот такая практическая работа, семинары. Но как на семинарах студенты будут работать по тому материалу, который они где-то накопают, не имея какой-то базы...
Ну конечно.
…не имея основы, вот тех самых установочных лекций. Поэтому, конечно, учебники устаревают. Но на то и учителя, на то и преподаватели, которые могут направить и поправить, наверное, содержание, в том числе и учебника.
А вот если эту мысль продолжить вот с какой точки зрения. Я как раз с вашими коллегами беседовал, историками. И они, как мне показалось, довольно четко сказали, что история как академическая наука и история как школьная дисциплина — это совершенно разные вещи.
Да.
Я их понял так, что в случае со школьной историей это даже скорее воспитание гражданственности больше, чем история как наука в чистом виде. Вот это так?
Совершенно верно. Ну, во-первых, учебник — это коллективный труд. А во-вторых, совершенно верно то, что вы подчеркнули: историк здесь должен не свою какую-то позицию продвигать и свое понимание, свое отношение к тем или иным проблемам. Учебник — это не просто изложение фактов. Это, действительно, учебник истории — он формирует гражданскую позицию. Достаточно переписать учебник истории — и мы переформатируем сознание целого поколения. Посмотрите, что сейчас происходит на той же Украине. А просто в том числе достаточно переписать учебник истории. И люди, дети — они уже воспитаны совершенно иначе, у них уже совершенно другое понимание добра и зла, что такое хорошо, что такое плохо, у них совершенно другая уже конструкция формирования государства и государственности. И мы уже говорили, что в основе, наверное, любой все равно историографии и учебника истории, лежит некий такой государствообразующий миф. Ну, в том плане, что некая идея консенсуса, к которой пришли историки. Но иногда ведь можно абсолютно какую-то мифологическую, мифическую концепцию создать, которая не имеет ничего общего с реалиями, и люди будут воспитаны, молодежь, дети будут воспитаны именно вот в этом понимании прошлого. А прошлое, соответственно, влияет на настоящее и, более того, конструирует будущее. И в этом плане опять-таки можно вспомнить слова Джона Локка. Ну, пускай он англичанин, просветитель. Ну, вообще, наверное, в рамках европейской традиции история воспринималась всегда не просто как наука о прошлом, а как наука, которая позволяет понять то, что происходит в настоящем, и которая в какой-то степени формирует будущее. То есть она связана обязательно с тем, что происходит сейчас. И вот Локк как раз говорил, что история — это величайшая наука благоразумия и нравственности и поэтому вещь совершенно необходимая. То есть как раз история — на каких-то примерах она учит, в том числе моральным качествам, она закладывает как раз нравственные основы, и она формирует в том числе и гражданина.
А если вернуться к теме связи истории и художественного творчества. Вот где пределы терпимого, допустимого для вас, как для историка, в изображении исторических событий писателем? Потому что есть художественный вымысел, и мы его не можем никак убрать из искусства. Что для вас терпимо, допустимо в художественном произведении на историческую тему, а что нет?
И это как раз связано, вы знаете, и с литературой, и с кинематографом, наверное, особенно.
Да-да, безусловно.
Потому что как раз люди, современная молодежь, наверное, читает все равно меньше, чем читали мы, и часто судит по истории по фильмам, которые видят. Литература тоже. Литература как раз — она очень влияет на не просто массовое сознание, а на историческое сознание. Мы историю войны двенадцатого года судим, понятно, по книге Льва Николаевича Толстого. И на Наполеона мы смотрим глазами Толстого. И здесь, смотрите, здесь даже не столько, наверное, важно, насколько Толстой искажает или не искажает факты, — собственно, комментированное издание «Войны и мира» существует, там можно всё посмотреть, почитать, сравнить, где Толстой правдив, где он, может быть, не совсем точен. И здесь как раз это роман, это допустимо. Но Толстой, как талантливый или гениальный писатель, он же очень еще и эмоционален. Она создает образы, он создает опять-таки живых людей. И это сближает и с историей тоже. И читатели — они просто верят. И потом это настолько глубоко вплетается уже в сознание историческое такое на протяжении столетий, что не просто обыватели, но и историки судят об эпохе по роману Льва Николаевича Толстого. То же самое возьмите Францию. Вот Варфоломеевская ночь. Кровавое вот это событие, истребление гугенотов. Но опять-таки вот эта вот классическая версия событий, что виновата была Екатерина Медичи, правительство, кем была заложена? Литературой — Дюма, Проспер Мериме. Вот именно литература — она и сформировала, художественная литература, тот образ, который потом вошел и в историческую память, и поэтому очень трудно этому как-то противодействовать.
Да. Но я говорю не о противодействии, а о том, что вот для вас лично есть критерий допустимого здесь? С чем он связан? Есть вроде бы мелочи, когда мы смотрим в каком-нибудь фильме о Великой Отечественной войне, что у советских офицеров там в сорок первом году погоны. Но, с другой стороны, это не смертельно. Вот каков критерий?
Да, знаете, в фильмах такое часто бывает, и часто мы можем встретить какие-то нелепицы, несуразности. Литература-то бывает просто фантазийной, то есть какая-то фантазия на историческую тему, и там совершенно какой-то вымысел. То есть то, что называется, может быть, контрфактуальная история: что было бы, если бы что-то произошло.
Да, ну, это да, это особый жанр.
Да, другой совершенно жанр. И поэтому, наверное, если автор создает художественный текст на историческую тему, но он просто именно невнимателен к мелочам, то, конечно, на мой взгляд, надо, действительно, внимательно изучать эпоху, если ты не создаешь просто какое-то… абсурдистское произведение, гротеск, ты переворачиваешь всё с ног на голову, то есть намеренно. Если ты просто именно допускаешь ошибки, потому что ты не изучил материал… Потому что ведь многие серьезные исторические произведения художественные — они же написаны на основе тщательного анализа источников, документов, и поэтому эти романы, повести, их можно воспринимать вполне как произведения и исторические. Но в то же время возьмите… вот, мы говорили уже: Бальзак, Стендаль, Золя. Вроде бы это романы исторические, и эпоха передана хорошо. Но мы воспринимаем отношение автора к происходящему, его эмоцию, его чувства. А у автора произведения могло быть свое отношение с представителями того общества, в котором он жил, с руководителями. Но мы, не понимая, почему автор так написал, мы вот это воспринимаем. И это формирует как раз уже неправильное представление о целой эпохе. И это, на мой взгляд, гораздо, наверное, серьезнее, нежели там эполеты какие-то не такие или еще что-то. Хотя, конечно, знаете, это неприятно, особенно когда в фильме, например, есть консультант, историк, и это фамилия стоит. Но я думаю, что это особенно неприятно, наверное, историкам, которые были консультантами. Потому что, скорее всего, они говорили всё как надо и консультировали. Но другое дело, это искусство, это процесс, и здесь, наверное, не всегда всё можно тщательно соблюсти.
ПРОЩЕНИЕ
У отца Александра Шмемана есть такие беседы о русской культуре, которые сейчас несколько раз выходили в виде книги. И он там, говоря о русской культуре, сравнивает ее с французской, вам хорошо известной. Мне просто очень интересно, как вы отнесетесь к такой мысли его. Он размышляет о нашем вот этом постоянном: кто мы, куда мы идем и так далее. И он пишет следующее: «Никогда француз не просыпается утром, спрашивая себя, что значит быть французом. Он совершенно убежден, что быть французом очень хорошо, и что это такое — совершенно ясно». А он говорит, что мы все время себе вопрос задаем. И дальше уже делает вывод, и я вслед за ним делаю вывод, что это свидетельство такой вот рефлексии постоянной, что мы культура рефлексирующая и так далее. Ну вот, насколько вы готовы согласиться с выводами — и про французов, и про русских, и в сравнении?
Ну, знаете, я бы, может быть, позволила себе не совсем согласиться…
Слишком смелое обобщение.
Да. Возьмите Гогена и вот этот цикл, который был написан на Таити. Кто мы, откуда и куда идем. Вот разве это не вопрос вот именно такой философский: что я, кто я и зачем я здесь? Возьмите ту же самую философию экзистенциализма, о которой мы говорили. Это же…
А это уже под влиянием русских классиков, да, XIX века. (Смеется.)
Возможно, да… Хотя, знаете, когда говорят о загадочной русской душе… Запад часто интересует не загадочная русская душа, а ресурсы, материальные богатства, что-то вполне такое осязаемое. Тем более что, знаете, русская душа… К русской литературе на Западе стали серьезно относиться только как раз после Тургенева, после Крымской войны. Вот тогда как-то французы открывают для себя русскую литературу, но не Пушкина как раз. Пушкина и вообще русскую литературу они воспринимали как литературу подражательскую какую-то, имитация. И вот как раз Достоевский об этом очень хорошо писал, о том, как французы воспринимали как раз и русскую литературу. Но я бы как раз не склонна была вот так обобщать, потому что, ну, возьмите Декарта. Ведь французы — они все себя считают сынами Декарта. Мыслю — следовательно, существую. То есть, как раз вот у англичан мысль — она очень рациональна, и она направлена на что-то. То есть, англичанин, наверное, не будет так вот сидеть на лавочке, и просто мыслить. Его мысль будет там направлена на то, что как вот палисадник разбить, как что-то изобрести — потому что англичане нация изобретателей. Или как там Британскую империю построить. А вот французы – они как раз мыслят. И для них это очень важно. Не случайно французы сами себя, наверное, именуют нацией философов. Ну, у нас тоже, у Чехова: «Давайте пофилософствуем». Но это в смысле что, давайте поговорим о чем-то. Просто поговорим.
Ну, немцы-то знают, что нация философов — это немцы. (Смеется.)
Да. Ну, это тоже, знаете, особая такая история, потому что, наверное, это влияние еще как раз Реформации и вот этих вот… и раскола немецкого общества. Как раз после Реформации в Германии будет активно развиваться прежде всего философия, духовная мысль, духовная литература, духовная музыка. Ну, по крайней мере, в тех землях, которые станут протестантскими. Поэтому, знаете, для французов внешне, наверное, характерно вот это умение жить, то что они называют savoir vivre То есть вот француз умеет получать радость от всего, что его окружает, наслаждаться. Опять-таки возьмите Герман Гессе, «Степной волк». Не французская, да, немецкая литература. Но там как раз Герман и Гермина, как вот эго, альтер эго. Это как раз фрейдизм, Юнг. И ведь Гермина — она может наслаждаться жизнью в каждый конкретный момент и радоваться тому, что, вот, происходит сейчас. Ну, или как опять-таки у известного уже героя из американской истории, «об этом я подумаю завтра». То есть я буду думать об этом потом, не пытаться, вот, сразу охватить, наверное, все проблемы. Французская философия — это же тоже, наверное, такая основополагающая часть такого вселенского какого-то, ну или нашего такого универсального багажа. Потому что все, наверное, ведущие какие-то мыслители, ну или основная часть — ну либо немцы, либо французы, и русские. И в этом, скорее, мы, наверное, похожи. Мне кажется, мы в этом плане похожи с французами. Другое дело, что у нас больше вот этого сомнения. То есть, вот, сомнение, самокритика даже — вот это нам присуще. А французы — они, может быть, уже как-то выросли, с идеей о том, что самые лучшие — это французы, лучшая философия — это французская философия, лучшая гастрономия — это французская гастрономия, лучшая мода — это французская мода. То есть здесь немножко какая-то разная, может быть, самооценка.
Тема «Прощение». Насколько простителен — в кавычках или без кавычек — европоцентризм. Мы, наверное, в первую очередь в проблеме европоцентризма историкам обязаны, потому что, как, по-моему, Ферро написал в книжке этой своей замечательной «Как рассказывают историю детям в разных странах мира», что, если для европейца история Африки начинается, когда там Бартоломеу Диаш приплывает, но мы понимаем сейчас, что это не совсем так. Но я, знаете, хочу не вот такой понятный европоцентризм и его критику сейчас обсудить, а вот некий европоцентризм как данность — вот в связи с чем. Ну вот наука — это ведь исторический феномен. И наука возникает не просто в определенное время, современная, скажем, наука, но и в определенном месте. Есть древняя китайская культура, древняя индийская культура. И даже у нас три философских традиции есть автономных, собственно, других нет: китайская, индийская и греческая, в одно время примерно возникшие. Но все-таки наука, происхождение науки связано именно с греческой философией. И университеты, которые сегодня во всем мире построены, — это европейский феномен. Не слишком ли мы бросились критиковать европоцентризм, Ведь он во многом есть некая данность, ну, потому что просто… а как иначе-то? Или это поверхностное такое суждение?
Нет, нет, я как раз хотела сказать, что я с вами в этом согласна. И мне, наоборот, не нравится, я не очень согласна, когда нас пытаются вытеснить за пределы Европы и сказать, что мы, вот русская цивилизация, мы не европейская цивилизация. Да, я согласна, и наш президент это постоянно говорит, что Россия — это государство-цивилизация, ну, в том плане, что мы самодостаточны, нам не надо копировать, подражать. А Запад как раз нас всегда воспринимал как нацию подражателей, якобы мы не способны ничего создать самостоятельно. И нас как раз и вытесняли за пределы Европы, относя к Азии, к варварам там, к какой-то Тартарии, Тартарары, адское место, то есть такое вообще антибытие и антимир. Хотя, вот как раз на мой-то взгляд, Россия — это и есть Европа. Ну, сейчас-то как раз, мне кажется, даже очевидно, что именно Россия сохраняет вот те традиционные европейские ценности, на которых Европа как общность формировалась. И как раз ведь христианство — это в том числе та основа, на которой Европа сформировалась на волне как раз османской угрозы. И сейчас получается, что Россия — это и есть оплот христианства, христианства в широком смысле, как ценностей культурных, гуманитарных, духовных, нравственных, религиозных, то есть, всего того, что когда-то было основой и европейской цивилизации, но теперь европейцы всё это либо растеряли, либо просто как-то сознательно уничтожают. И вот, знаете, я вот буквально на днях была на заседании Французского клуба, он теперь называется «Тургенев» как раз. Он заседает, да, в Тургеневской библиотеке-читальне. И вот с этого года его будем называть Французский клуб «Тургенев». Он франко-русский, там половина русских, половина французских. И вот, как раз один коллега, говоря о том, почему Россия привлекательна сейчас, он как раз и говорил о том, что Россия — она как раз является хранительницей христианских ценностей, от которых Европа отказалась. И в этом плане, как раз все надежды, возвращаясь к надежде, они устремлены к России как некоему якорю спасения. Ну, и владыка Савва как раз об этом постоянно говорит, что христианство — это и есть то самое, что делает Россию Россией и Европой. И это единственное, что может позволить ей сохраниться, иначе и она погибнет. Поэтому мы в этом плане на мой взгляд, европейцы. Нам как раз понятны, близки вот те ценности, которые и были-то общими. Другое дело, что европейцы всегда пытались нас вытолкнуть. И вот как раз университеты, о которых вы вспомнили, для них это было как раз ключевым, что якобы вот у нас не было вот этой университетской культуры. Но у нас были свои особенности. У нас была, конечно, специфика. И плюс история. И ордынское нашествие, которое просто нас затормозило, наше развитие. Но опять-таки мы создали тот заслон, который спас Европу. И кстати, если мы вспомним Вольтера, а это как раз просветитель, которые отходят от европоцентризма, обращают взгляд на другой мир. Но все равно, знаете, у них же это было через оптику «учитель — ученик». То есть европейцы — это учителя, а весь остальной мир – это ученики. Ну, либо концепция «центр — периферия». То есть там центр, всё остальное — периферия. Но ведь Вольтер, если я не ошибаюсь, он как раз и представлял Россию как лучшую из Европ. Потому что для него Россия была чистой площадкой такой, на которой можно было проводить эксперименты и, используя европейский опыт, создать что-то свое, самобытное и даже лучше. Ну, потому что опять-таки, по его мнению, у России не было прошлого, не было традиций. Это такая тоже общая точка зрения на Западе, в Европе, что якобы история России начинается с Петра. А вот до Петра ничего не было, был только мрак и хаос. Поэтому, мне кажется, не надо нам никуда уходить из Европы, потому что мы не то чтобы пришли в Европу, мы и есть Европа.
Да, органическая часть.
Вот, знаете, опять-таки вспомнила слова, уже другого коллеги, который выступал на заседании Французского клуба. И он рассказал, что вот он пересмотрел знаменитый фильм «Профессионал»..
С Бельмондо, да.
…с Бельмондо, да. И он сказал, что, «когда я это смотрел, я пришел в ужас. Потому что я увидел Францию, которую мы потеряли. Я увидел, что от той Франции, от Франции настоящей, ничего не осталось». И вот как раз… то есть не осталось от Европы, от настоящей Европы. А Россия-то — она как раз эти ценности и сохраняет, ну или, по крайней мере, мы стремимся это сохранять. И это сейчас как раз очевидно.
Я, знаете, еще что хочу успеть в этой теме обсудить, теме «Прощение», такой более личный вопрос. А вот для вас эта тема какое измерение имеет в первую очередь в жизни? Я имею в виду там литературное, жизненное, профессиональное. Вот тема прощения — для вас это прежде всего что?
Ну, на мой взгляд, здесь, наверное, как раз, может быть, несколько таких пластов понимания этой темы. Потому что это и, конечно, в плане каком-то таком возвышенном, вот если возвышенное и земное, в этом плане. Это может быть, и это очень важно, мне кажется, в плане вот таком обычном, жизненном, в обычной, в простой нашей жизни на Земле. Потому что, мне кажется, прощение — это очень важно, уметь прощать и не держать как-то в себе, не таить вот эту обиду, злость какую-то. Хотя в то же время ну не просто вот: да, делайте что хотите, я вот вас всех прощаю. То есть не в этом, наверное, плане. А скорее вот именно не держать какую-то злость, обиду, а пытаться… наверное, пытаться понять этого человека, пытаться принять или пытаться объяснить, для чего, почему так произошло. Ну и, наверное, коль мы говорим о профессиональных сюжетах, вот, наверное, это тоже еще связано и с профессией. Вот прощение в профессиональном плане, потому что, знаете, мы порой бываем очень резкими в суждениях относительно своих коллег. И иногда можно как-то так случайно, как-то так походя задеть, обидеть даже коллегу. Вот как-то так оговориться или социальные сети. Вот они сейчас создают как раз, мне кажется, такую площадку, когда люди могут обижать друг друга, причем, они могут даже не знать друг друга. Потом ты не видишь этого человека, ты можешь даже его не знать. И вот как раз здесь можно очень-очень сильно человека обидеть, даже которого ты не знаешь. Или можно как-то обидеть, опять-таки задеть человека, резко как-то высказаться, даже в плане профессиональном, и потом вот это будет очень так терзать тебя самого, что ты обидел кого-то. И поэтому здесь, наверное, и прощение, с одной стороны. А с другой стороны, вот, эта опять-таки максима, да, поступать так, чтобы максима твоей воли была в то же время императивом всеобщего поведения. То есть надо стремиться поступать так, как бы ты хотел, чтобы другие люди к тебе относились. И не только прощать, но стремиться, наверное, и не причинять зло, не обижать человека знакомого или даже, может быть, тебе не знакомого.
ЛЮБОВЬ
Я хочу вернуться к вашей фразе, в самом начале разговора вы говорили про человеческую природу. И сказали, что люди же всегда и любят, ненавидят, испытывают какие-то чувства, характерные для человеческой природы. Но вот у Лотмана есть замечание по этому поводу. Он говорит: да, во все времена люди любили, ненавидели, радовались, печалились. Но он оговаривается: они делали это по-разному. И это, собственно, тоже в том числе, мне кажется, предмет изучения и историка тоже. Так вот, что особенного в том, как мы любим сегодня по сравнению с прошлым веком?
В какой-то степени, наверное…
В культурной… по крайней мере культурные формы-то разные принимает.
Да, мы любим по-разному. Каноны красоты в разное время были разные. То, что сегодня кажется идеальным, в какое-то время могло казаться совершенно не идеальным. Возьмите полотна того же Рубенса — барышни, которые пышут энергией, здоровьем. Сейчас вряд ли бы сказали, что это вот идеал какой-то женской красоты.
Да.
Хотя тут главное гармония. И это работы прежде всего, наверное, о гармонии. Люди в разные времена, люди разные, они могут любить, ненавидеть по-разному. И поэтому опять-таки, возвращаясь к словам Марка Блока, для того чтобы понять современников, надо попытаться проникнуть в головы современников, событий, почувствовать их психологию, их восприятие мира. Иначе если мы будем рассуждать с позиции сегодняшнего дня, то мы рискуем ничего не понять в той эпохе, которую мы изучаем. Но с другой стороны, знаете, вот мы со студентами курс новой истории, или историографии, начинаем часто с работы Никколо Макиавелли «Государь». А ведь работа когда была написана — эпоха Возрождения. Хотя Макиавелли, Возрождение, тут такие тоже… Он титан Возрождения, но отношение у него своеобразное. И его идеал человека — это не идеал эпохи Возрождения. Но ведь даже Макиавелли — он всю человеческую природу и всю человеческую деятельность, в том числе политическую, выводит опять-таки вот из этих качеств души, из чувств, то есть он рассуждает о любви и ненависти как о движущих мотивах человеческой души. И это как раз то, что потом станет основой этологического подхода к изучению человека. И когда ученые будут изучать как раз агрессивность, они же об этом как раз будут думать: как преодолеть вот эту вот агрессию и ненависть, которые возникают в душе человека, и почему это возникает. Почему люди борются с войной, а война всегда является спутницей жизни человека. И вот, смотрите, я говорю: Макиавелли, XVI век, а студентам это очень понятно. Или Томас Мор, «Утопия». Опять-таки очень близки, очень понятны нам те чувства, которые люди испытывали тогда, причем это и итальянцы, и англичане. Мы вроде бы разные, но нам это тоже очень понятно и очень близко, хотя, конечно, мы это воспринимаем часто с позиции сегодняшнего дня и воспринимать можем совершенно не так. Ну, тем более если мы будем брать даже одно время, но разные культуры, когда люди тоже выражают свои эмоции и чувства по-разному. Интроверты — экстраверты. Здесь тоже всё надо учитывать. Но мне кажется, что для русского человека… мы люди такие очень, наверное, искренние в своих эмоциях, и мы любим искренне. Мы… вот насчет ненависти — не знаю, есть ли у русского человека обобщенного, что-то такое вот ненависть, в душе. Не знаю. Если это враг, да, то мы с ним боремся. И мы всё сделаем, чтобы этого врага победить, и мы ненавидим, действительно, врага. Но мы ненавидим врага. А потом, когда отношения нормализуются… Возьмите тех же французов. У нас же не осталось вот этого враждебного отношения по отношению к Франции, к французам и даже к Наполеону. Но Вторая мировая война, Великая Отечественная война — здесь гораздо сложнее. Потому что это…
Ну, просто и времени меньше еще прошло.
И времени меньше. Ну, и несопоставимо, да.
Несопоставимо, конечно.
Наполеон не шел в Россию для того, чтобы нас уничтожить. Он хотел выиграть в приграничных сражениях, но не получилось. Тема Второй мировой, Великой Отечественной совершенно иная. Поэтому для нас эта тема — она очень важная и очень личная, очень такая болезненная, потому что нет семьи, наверное, в которой не было бы людей, которые не погибли на полях сражений во время Великой Отечественной и Второй мировой войны. Но ненависти как таковой у нас все равно, мне кажется, на каком-то таком национальном уровне нет.
Но есть еще русский бунт, бессмысленный и беспощадный. И тут вот Пушкин, который, как мы с вами согласились, и историк прекрасный, все-таки, наверное, не случайно замечает это.
Наверное, да. Но знаете, здесь мы выходим еще на одну проблему. С одной стороны, великий бунт, бессмысленный и беспощадный. Но с другой стороны, мы можем вспомнить такой сюжет, как аутокаталитическая реакция: человек создает культуру, а потом культура начинает оказывать воздействие на человека. Возьмите феномен «тургеневские барышни». Вот Тургенев написал, вывел этих барышень в своих произведениях — и все их стали везде замечать. А их, может быть, даже раньше как-то так и не видели. Тройка, птица-тройка, куда несешься ты, да? Но это опять-таки образ. Это некая такая метафора. Но отныне Русь воспринимается именно так, как тройка, как будто мы несемся куда-то в тартарары. А это опять-таки мы, наверное, должны понимать, что это такой образ. И русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Я вот думаю, что да, Пушкин — это наше всё. Но все равно, даже к Пушкину надо относиться осторожно — к этим высказываниям. Они очень яркие, и они очень образные.
Но он там все-таки конкретное историческое событие описывал…
Да, но мы начинаем уже это применять абсолютно к любому событию, какому-то восстанию, революции. У нас уже есть какая-то схема,пускай это даже пушкинская схема. Точнее, у Пушкина это не схема, у Пушкина это образ. А мы … человеку так просто… наверное, проще мыслить, когда есть какие-то схемы, алгоритм, и мы пытаемся всё вот в эту схему уложить.
А скажите, пожалуйста, вот понятно, что вы увлечены и любите то, чем вы занимаетесь…
Для историка это плохо.
А почему?
А потому что вот есть такое мнение, что… Историк не должен любить своих героев. Жан Тюлар, французский известнейший наполеоновед, он старейшина цеха наполеоноведов, вот он говорит, что историк не может любить своего героя, иначе он не историк. Вот, знаете, то, что называется стокгольмским синдромом. Историк начинает сопереживать, он начинает сочувствовать, он пытается понять своего героя.
Ну а как это соединить с Тарле, для которого не было покойников?
Я думаю, что это разные…
Это же не альтернативные разве подходы?
Я думаю да, что это разные подходы. И может быть, даже не столько альтернативные. То есть мы можем стремиться к соблюдению истины, к стремлению познать и к объективности, объективно изложить героя. Но мы все равно как-то его оживляем, одушевляем.
Ну, это что-то как у актеров, надо оправдать, чтобы сыграть это?
Или даже не оправдать, мы их пытаемся скорее понять. Мы пытаемся понять и, может быть, что-то свое в них переносим. Потому что вот мне доводилось такое слышать, когда мне говорят, что это же вы себя вот в этом герое изображаете. Хотя, конечно, я-то стремлюсь к объективности. Но наверное, здесь как раз вопрос именно понимания, как я понимаю вот этого персонажа, этого героя.
А вот что именно вы любите в том, чем вы занимаетесь? И я бы сказал, какая это любовь? Я помню, у меня был ваш коллега, историк, антиковед, замечательный Игорь Евгеньевич Суриков. И как раз поскольку он антиковед, то мы там перебирали все вот эти варианты — филиа, агапы, что вот у него, он, по-моему, сказал, что это потос греческий, если я сейчас терминологически ничего не путаю, его отношение. Что он просто не может ни дня вот без этого жить, вот совершенно как: уже день к закату, а я еще, так сказать, не побывал в античности и так далее. Вот в таком разрезе хотел бы вас спросить, что именно и что это за любовь вот это, какого рода она.
Ну, это очень хороший, наверное, вопрос, очень правильный, потому что я действительно люблю то, чем я занимаюсь, мне это очень нравится. И мне как-то кажется, здесь близко можно вспомнить цитату из Маяковского. Потому что Маяковский — это не только про там паспорт, который он достает из…
Да Маяковский великий поэт просто, да.
Конечно. Это же какая у него лирика, и как он пишет как раз о любви. Ну вот, у него есть про поэзии, ну, не дословно, но поэзия — это вся езда в незнаемое, горы работы, груды руды, изводишь единого слова ради тысячи слов словесной руды. И вот как раз для историка это то же самое. То есть это тысячи тонн словесной руды, источников, когда ты пытаешься до чего-то докопаться, ты пытаешься дойти до самой сути. Хотя понятно, это, наверное, невозможно — дойти до самой сути, но ты пытаешься приблизиться к какой-то истине, к объективной картинке. А для меня, мне кажется, вообще это делает человека духовно богаче. Если ты занимаешься историей, то для тебя мир — он просто оказывается бесконечным. То есть историк же, он же опять-таки приватизирует как-то своих героев. И он так и рассуждает о них там: для меня это мой Гизо, моя княгиня Ливен. То есть здесь не то что я их никому не отдам, но я их воспринимаю как своих каких-то близких мне, понятных людей. Ну и, наверное, самое такое интересное — это то, что бывают какие-то персонажи, о которых никто не знал, которые как-то забываются, потому что в истории есть ведь пара памяти и забвения. И когда ты этого человека вытаскиваешь, когда…
То есть вы возвращаете его.
…да, ты возвращаешь его. Потому что ведь бывает так, что, если об этом историки не сказали, как будто бы этого не было и как будто этого никогда не существовало, такое бывает. И когда ты никому не известного персонажа, причем часто это очень хорошие люди… Возьмите граф Жан-Жак де Селлон, человек, который стоял у истоков Лиги Наций, пацифизма. Он все свои деньги, сбережения, все свои богатства, он был богатый человек, отдавал… Он боролся против отмены смертной казни. Вот вся его жизнь была посвящена борьбе за отмену смертной казни и борьбе за мир. Но никому не известен персонаж, по крайней мере, в нашей стране был, да и в Европе, там одна статья. И когда ты вот это вытаскиваешь, и этот человек становится живой для нас, мы его тоже узнаём, видим. Понятно, здесь я ни в коей мере не сравниваю историка с демиургом: вот он тоже творец. Но он как-то так делает свое скромное дело, и по крайней мере, на каком-то таком маленьком, незначительном уровне он расширяет наши познания. И главное, он не просто знания расширяет, а он людей выводит. Потому что ведь история — это всегда истории людей. Вот для меня, по крайней мере, это так. И для меня важны прежде всего люди в истории, а не какие-то абстрактные процессы. И когда ты понимаешь, что вот, теперь об этом человеке будут помнить в истории, будут помнить о его заслугах, о том, что он сделал важного, мне кажется, радость какая-то возникает за этого персонажа. Не за себя, про себя тут как-то даже вообще не думаешь. А вот то, что теперь об этом человеке узнают другие, это как-то очень так трогательно.
Финал. Я хочу вам предложить цитату из Ключевского известную, но, на мой взгляд, как мне представляется, неочевидную. «История не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков». «Согласиться нельзя возразить» — где вы поставите знак препинания?
Я согласна с тем, что сказал наш великий историк. На мой взгляд, как раз вот эта цитата из Василия Осиповича Ключевского — она очень современна, и как раз мы сейчас своими глазами как раз это видим. И да, история никого ничему не учит, но она действительно наказывает, причем очень жестко, за незнание уроков. Вот сейчас на наших глазах как раз мы это видим — не просто как какую-то абстрактную красивую фразу, а мы видим то, о чем я уже говорила: достаточно просто переписать учебник истории, достаточно исказить историю, достаточно сфальсифицировать факты и преподать их в искаженном совершенно виде — и, действительно, мы увидим, что можно переформатировать настоящее, можно в заданном варианте сформировать вúдение нужного будущего. Поэтому эта фраза… вот мне всегда она, какое-то такое грустное чувство у меня вызывает. Потому что история действительно никого ничему не учит. Казалось бы, все мы знаем, что умный учится на ошибках других. И казалось бы, у нас столько исторических примеров. Всё ведь уже это было. И вот, занимаясь, например, сюжетами, связанными с восприятием России на Западе, я этим занималась применимо к прошлым эпохам. Но вот современная ситуация — она показывает, что вот в этом плане абсолютно ничего не меняется. Восприятие такое же. И казалось бы, мы всё это знаем, историки всё это знают. И мы должны ведь как-то выводы из этого делать в том плане, что по крайней мере понимать, что вот да, так уже было, поэтому не надо обольщаться, так оно было всегда. Но, к сожалению, даже сейчас иногда приходится слышать, что вот, что такое на Западе происходит, этому нет рационального объяснения. Объяснение-то как раз есть. Другое дело, что мы часто к этому не обращаемся и воспринимаем историю, действительно, как просто набор каких-то знаний. Понятно, сейчас не так. И к счастью, руководство нашей страны, наш президент — он как раз очень хорошо понимает, какова роль истории не просто в школьной программе, а истории формирования государства, государственной позиции. И к счастью, перемены в этом плане происходят. Но я думаю, все равно всё повторяется, и к сожалению, история ничему никого не учит, и человечество каждый раз наступает на те же грабли. Мы можем вспомнить Вольтера, «Кандида»: «всё к лучшему в этом лучшем из миров». Хотя там тоже с определенной долей такого скепсиса это говорится. Но наверное, опять-таки нам ничего не остается, как возделывать свой сад.
Прекрасно. Спасибо вам огромное за нашу беседу. Я вам очень благодарен. Спасибо.
Спасибо вам.
Это была Наталия Таньшина. А мы продолжим писать «парсуны» наших современников через одну неделю.