Ровно два десятилетия тому назад этот поэт из Воронежа впервые появился в редакции «Нового мира». Было ему тогда сорок лет. Помню, что его стихи нам понравились своей — совсем не «провинциальной» — плотностью и густым культурным кодом (чувствовалось, что автор начитан и пропитан поэзией чуть ли не на поколение вперед).

И еще — тем, что я позднее назвал для себя «музыкой тщеты и надежды».
Какая-то обезоруживающая беспощадность поэтического зрения живет в этой поэзии, трезвой по отношению к пережитому и вспомянутому. И рядом — простодушное, чуть ли не детское: «это не я, это оно — само».
Так и есть — само, и надо учиться его принимать.
«Его» — это и о нашем непоэтическом бытии, которому порою так не хватает дерзкой попытки преображения. Это — и о жизни, что нередко тоскует о поэте, который обратит на нее внимание, вооружившись своим уникальным опытом, отвагой и вдохновением.
Двадцать лет тому назад поэту было ровно сорок, сейчас ему шестьдесят. Книг было — пяток, не больше; сегодня — полтора десятка. И прозы, и стихов, и эссеистики.
Мне нравится, что у поэта издавна наличествует «параллельная жизнь»: его медицина.
Выпускник Литературного института, побывавший на всех семинарах и мастер-классах (от Юрия Левитанского до Юрия Кузнецова); получивший рекомендацию в Союз писателей от легендарного политзека Анатолия Жигулина, профессор Сергей Попов — специалист по ультразвуковой диагностике. В Москве он обычно оказывается на конференциях и всегда заглядывает в «Новый мир», оставляя стопку стихотворений.
Совместный проект журналов «Фома» и «Новый мир» — рубрика «Строфы» Павла Крючкова, заместителя главного редактора и заведующего отдела поэзии «Нового мира».
Одна из его последних книг называется «Азбука буки» (2017). Это именование у меня не совсем рифмуется с обликом доброжелательного, очень «чеховского» человека: поэта-вопрошателя и поэта-живописца из казацкого когда-то Воронежа.
Впрочем, «бука» — это же и «буква», вторая буква из соприродной нашему поэту кириллицы…
Добро пожаловать в «Строфы», Сергей Викторович.
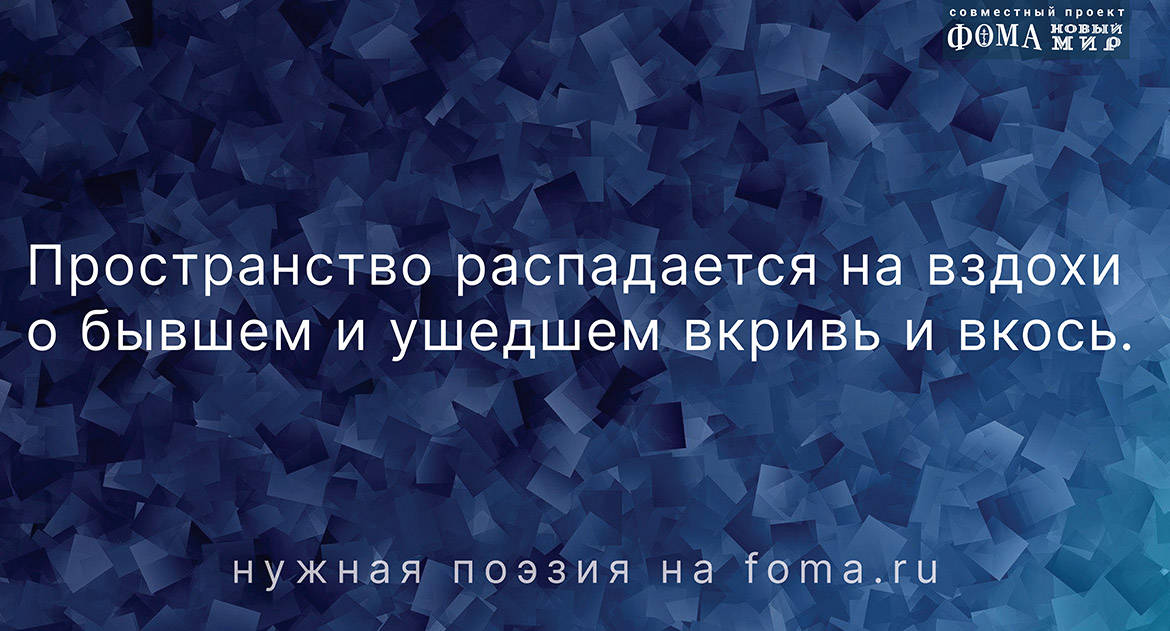
***
Пространство распадается на вздохи
о бывшем и ушедшем вкривь и вкось.
И лакомая, в оспинах эпохи,
сомнений брезжит вянущая гроздь.
Она теряет ягоды поштучно
и нарушает выгоды учёт.
О, как всё было неблагополучно,
и как же время правильно течёт!
О, как все было неисповедимо
и несомненно в каждой из минут!
И виноградных градин — мимо, мимо —
предвечный обозначился маршрут.
И вскорости пребудут только жилы,
и можно будет выдохнуть навзрыд…
Мы жили вкось, и мы кромешно живы.
И остов кисти в памяти горит.
***
Заехать в лес и рухнуть ниц —
всё горе — не беда.
Оплечь чащоба без границ,
паслён и лебеда.
Распад пути, уход в траву,
в прикорневую глушь.
Рассудок это наяву
переварить не дюж.
И сон средь стеблей тишины
цветёт над головой.
И только систолы слышны.
И значит — ты живой.
***
Он пробовал прозой. Но проза вредна —
для певчего сердца обуза одна.
И в рифму старался, как в оные дни.
А все перепевы случались одни.
В разборки залез, опускаясь на дно.
Попутал же бес — окаянство одно.
Окстился, остыл. Распластался на дне —
теченье оплечь для него не в цене.
Лишь ангелов сквозь пресноводную грязь
он кличет, своей немоты не стыдясь.
***
Произрастает из-за леса
листва непрожитого дня.
Её рассветная завеса —
блажному взгляду западня.
И всей развёрстки каждый атом
дрожит на жилах тишины,
подсвечен снизу розоватым
и сизым — чуть со стороны.
Преображения побеги
скользят по краю бытия,
на промежуточном ночлеге
вчерашних соков не тая.
Они напитывают краски
по кронам страсти и тщеты,
страшась сойтись запанибратски
с кромешным будущим на ты.
Пересеченья сна и яви
теснятся в яблоке глазном
предстать без промысла не вправе
ни явью, ни последним сном.
***
Свет занимается дальний,
блики снуют по стеклу.
Черный и пирамидальный
тополь уходит во мглу.
Розные и золотые
блёстки скользят в никуда —
как по строкам запятые,
словно слова — ерунда,
словно кромешная ересь —
всё, что темнеет в окне,
и в сотворенном изверясь,
Бог маякует извне.
Словно залог продолженья —
суть не слова и дела,
а световые скольженья,
окон ночных зеркала,
легкий наклон тополиный,
длинная тень до угла,
над чернозёмом и глиной
полурассветная мгла,
дрожь ожиданья, испуга
лиственный шум угловой,
трассы небесного круга
над колготной головой.
***
Когда колючий от остуды
перегоревший свет не мил
и всё на облачные груды
Всевышний небо разломил,
в его кромешной сердцевине
не истощается запас
громов и молний, что поныне
не знают свой урочный час.
И твердь, неведеньем хранима,
всё ждет назначенного дня,
когда внезапно канут мимо
разряды горнего огня.
И там, где заживо копилась
неукоснительная смерть,
очнется свет, зажжется милость,
которой не перегореть.









