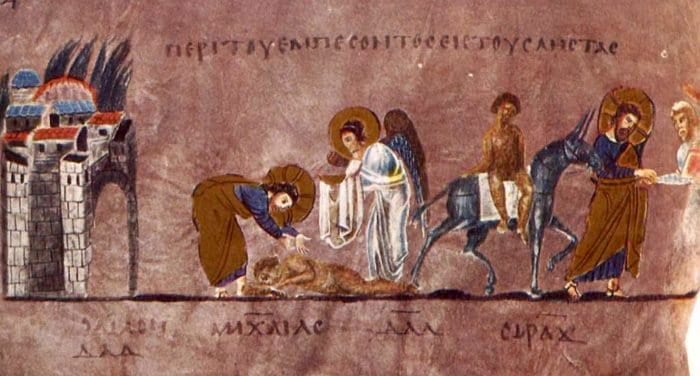Вторая Неделя Великого Поста посвящена памяти святителя Григория Паламы. Он прославился, как защитник практики непрестанной молитвы, исихии (молчания) и автор учения о нетварных энергиях и Фаворском свете.
В рубрике «Толковый словарь» мы писали про слово ἡ ἐνέργεια (energeia) — энергия. Оно по-древнегречески дословно означает «действительность», «деятельность», «действие».
Также очень важным для православия словом и понятием является и родственное древнегреческой энергии слово ἡ συνεργία — синергия, которое переводится на русский как «содействие», «сотрудничество», «соработничество». Оно образовано при помощи приставки συν — «с», «со», и существительного ἐνέργεια.
Это малопонятное для неспециалистов слово крайне важно для верного понимания православного богословия и аскетики. Учение о синергии существовало в Церкви всегда, но подробно было сформулировано в традиции исихазма, являющегося сердцевиной православной духовности.
Особая роль в этом принадлежит Григорию Паламе, учившему о соединении нетварной Божественной энергии и энергии тварной, человеческой. Впервые же похожий на синергию термин употребляется уже в Новом Завете, в Первом Послании к Коринфянам Павел говорит: «Мы соработники (συνεργοί) Бога» (1 Кор 3, 9).
Фундаментальной установкой паламитского богословия была следующая идея: благодаря синергии, то есть соединению энергий Бога или Его благодати и покоряющихся ей энергий человека, в результате длительного и крайне трудного аскетического пути для подвижника становится возможным обожение.
Так в исихазме называется реальная встреча человека с Богом, приобщение к Божественной жизни и созерцанию нетварного Божественного света. Но для этого удивительного результата в равной степени необходимы как действия и стремления самого человека, так и Божия благодать. Как еще в V веке говорил святой Иоанн Кассиан, «мы всегда должны быть твердо уверены, что никак не можем достигнуть совершенства своими трудами и подвигами, хотя бы со всею неутомимостью упражнялись во всякой добродетели. Одни человеческие усилия не могут иметь такой цены и силы, чтобы возводить на высоту святости и блаженства, если Сам Господь не будет притом содействовать нам и направлять сердце наше к тому, что для нас полезно... В деле спасения нашего участвует и благодать Божия, и свободное произволение наше... оба согласно действуют и в деле спасения нашего равно необходимы».
За паламистским богословием и спорами вокруг него стоят очень сложные и утонченные идеи, которые очень трудно понять неподготовленному человеку. Тем не менее, важно подчеркнуть тот факт, что и сам Палама, и его последователи никогда не рассматривали синергию как некое абстрактное, идеальное понятие. Для него, как и для афонских монахов-исихастов, поддержавших Паламу в его спорах с его оппонентами (первым из них был итальянский монах Варлаам, которого А. Ф. Лосев назвал «кантианцем XIV века»), синергия была опытной реальностью — тем, что на практике происходило в «умном делании» афонских исихастов.
Синергия, то есть стяжание благодати Святого Духа, опытно переживалось монахами-подвижниками как вполне объективный факт.
Например, в «Святогорском томосе» прямо говорится, «таинственные действования (энергии) Духа... действуют в живущих по Духу и обнаруживают себя деятельно, а не доказываются рассуждениями».
То есть, познать энергии Бога можно лишь в том случае, если ты и сам живешь «по Духу». Получается, что познать правду паламизма (а значит — и православия) можно только опытно, практически. Чтобы достичь синергии, встречи Бога и человека, нужно пройти путем аскетического делания. Одного интеллектуального усилия тут никак не достаточно. Действительно, как сказано в Нагорной проповеди, лишь чистые сердцем могут узреть Бога (Мф 5,8).
Чтобы отстоять эту опытную правду монашеского «умного делания», и был введен в XIV веке паламитский догмат о неразличимом различии в Боге Его сущности и Его энергий. Этого требовали интересы главного дела христианства — спасения человека, которое не может быть объяснено рационально и разумно, потому что вера выше любого человеческого знания, выше человеческого разума, и всего того, что он в принципе способен постичь. Как и остальные догматы, он вводился вопреки получившим распространение рациональным представлениям, которые пытались толковать богословские проблемы преимущественно на основе разума.