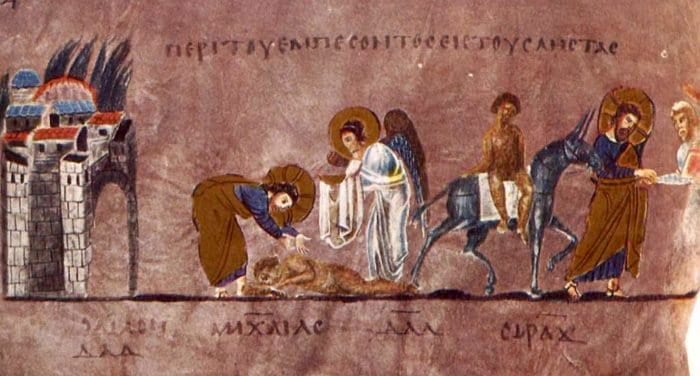Догмат о Воскресении является в христианстве одним из самых трудных для рационального понимания, для того чтобы «внешний» человек мог с ним согласиться и его принять хотя бы абстрактно-теоретически. Как совместить его с опытом неустранимости и всевластия смерти? Недаром, когда апостол Павел проповедовал среди философствующих афинян, то его вполне благосклонно слушали, пока он не заговорил про воскресение мертвых. Над ним тут же стали смеяться и ему кричать: «Об этом послушаем тебя в другое время» (Деян 17:32).
Такая реакция афинян неслучайна. О многом в Евангелии философу-рационалисту можно слушать и со многим терпеливо соглашаться, пока все не упрется в Воскресение Христа. Оно является одновременно главным фактом и главным основанием христианской веры, ее главной истиной: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15:12-14).
Тут и проверяется — веришь ты в Христа или нет. Даже нравственные правила жизни по Евангелию и аскетические упражнения без веры в этот основополагающий факт, открывающий перспективу победы над смертью и вечной жизни, лишаются своего подлинного смысла и опоры: им становится не на чем держаться. В чем, например, смысл совершать добрые поступки, если и они в том числе обречены на исчезновение? Когда делай что-то или не делай, а все равно из меня, как говорил тургеневский Базаров, в итоге лишь вырастет придорожный лопух? Неслучайно некоторые проницательные люди говорят, что главный вопрос философии — это на самом деле вопрос «а что дальше?»
Главным праздником Православной Церкви является Пасха, когда празднуется Воскресение Христово из мертвых. Оно является залогом и обещанием воскресения остальных людей. И главное, ошеломляющее на самом деле и невероятное открытие, противоречащее тленным жизненным очевидностям — что смерти нет. Как говорил святитель Иоанн Златоуст, «сила смерти и подлинность смерти — в том, что умерший уже не имеет возможности вернуться к жизни... Если же он после смерти оживет, и притом лучшею жизнию, то это уже не смерть, но успение».
Древнегреческое слово ἡ ἀνάστασις (anastasis — кстати, отсюда русское женское имя Анастасия) означает «подъем», «вставание», «пробуждение», «возрождение». Именно оно стало обозначать и воскресение мертвых, о котором говорит заключительный, двенадцатый член Символа веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Однокоренным с ἡ ἀνάστασις является глагол ἀνίστημι, что значит «поднимать», «пробуждать», «восстанавливать».
В древнегреческом ἡ ἀνάστασις, вставании-пробуждении, следует слышать смысловой оттенок вставания и движения именно вверх, выпрямления, а не простого восставления, возрождения всего живого в прежнем облике, когда прошлая жизнь восстанавливается и возвращается к самой себе словно по кругу.
Приставка ἀνά в этом слове имеет значение не только повторности действия, но и движения вверх. Образ такого движения ближе к уходящей ввысь прямой, а не к кругу.
Дело в том, что утверждению догмата о воскресении сопутствовало опровержение ереси всеобщего апокатастасиса. Конечно, интуиции, приведшие некоторых ранних богословов, прежде всего Оригена, к этой концепции (от древнегреч. ἡ ἀποκατάστασις — «восстановление», «возвращение в прежнее состояние») имеют под собой вполне понятные и в чем-то даже уважительные причины. Предполагавшееся ими восстановление абсолютно всех живших, и даже демонов, к своему первоначальному состоянию, продиктовано сочувствием ко всем людям, обреченным на смерть, желанием их от нее спасти.
Тут также есть фаустовское переживание уникальности каждого жизненного мига: «Остановись, мгновенье. Ты прекрасно!» Это стремление вернуть, вновь обрести «утраченное время». Печально, если так и пройдет без следа эта жизнь со всем ее шумом и яростью.
Однако парадокс концепции апокатастасиса в том, что желание спасти историю оборачивается ее потерей, отменой. Если все обращается в строго первоначальное состояние, то в чем был смысл истории? Это лишь поворот одного и того же круга, не более того.
Как учит Церковь, Воскресение, которое будет одновременно и телесным, и духовным, станет не только восстановлением погибшего творения, но и в то же время ее новым сотворением: «Се, творю всё новое» (Апок 21:5). Под новым Небом и на новой Земле больше не будет смерти, тления, болезней и печали. Но, например, в принципе невозможно себе даже отдаленно представить, каким конкретно будет новое человеческое тело, неподверженное больше тлению и смерти. Воскресение произойдет «во мгновение ока», когда все раз и навсегда изменится, чтобы больше уже никогда не меняться: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти — грех; а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор 15:51-57).