История русской поэзии пережила многое: бывали времена, когда и светлое имя Пушкина еще при его жизни уходило на периферию читательского сознания, когда вперед выдвигались «поэты-идеологи» или вульгарные поборники «чистого искусства». Временами казалось, что социальные катаклизмы перекрывают самую жизнеспособность поэзии, случалось, что она подменялась литературной эстрадой, наконец, многолетний цензурный произвол рушил растущие отношения читателя с независимым стихотворчеством.
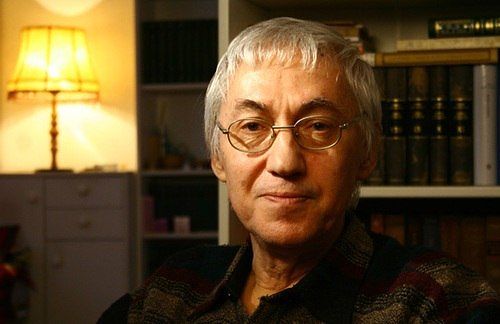
Кажущиеся периоды спада перемежались подъемами — взять хотя бы «серебряный век» с его концентрацией имен и течений. Однако, при всех этих всплесках и кризисах, думающий и ищущий читатель без труда выделял имена тех, кто своим видимым или невидимым присутствием свидетельствовал: подлинная поэзия всегда жива, связи не прерываются, драгоценное наследство не пущено в распыл. И даже если книги почти не издавались, а читательский круг был исчисляем и невелик, понимание того, что живешь в присутствии поэтов, стихи которых переживут и времена и моды, — не исчезало.
«Строфы» — совместный проект журнала «Фома» и «Новый мир» о творчестве поэтов XX-XXI веков. Автор проекта: Павел Крючков.
Такова поэзия Олега Чухонцева. Уроженец Павловского Посада, автор всего шести стихотворных сборников, он верен своему давнему выбору: поэт должен научиться слышать себя и улавливать страдания многих. Это продолжатель классической традиции, виртуозно владеющий всеми богатствами русского стихосложения, неравнодушный историк и доверчивый живописец, поэт-врачеватель. Многолетний вынужденный затвор приучил его «жить по своим часам». В стихах Чухонцева собственный духовный опыт всегда соизмеряется с Вечным, собственная частность — с болью века. У его стихов долгое дыхание, и если бы я хотел говорить об их актуальности, то вспомнил бы имя Евгения Баратынского, чья философская лирика волнует читателя с тех далеких дней 1842 года, когда сборник «Сумерки» вышел тиражом чуть больше ста экземпляров.
Поздравляя Олега Чухонцева с Национальной премией «Поэт», мы публикуем стихи из книги «Фифиа» (2003) — счастливого подарка русской литературе в новом веке.

***
А березова кукушечка зимой не куковат.
Стал я на ухо, наверно, и на память глуховат.
Ничего опричь молитвы и не помню, окромя:
Мати Божия, Заступнице в скорбех, помилуй мя.
В школу шел, вальки стучали на реке, и в лад валькам
я сапожками подкованными тукал по мосткам.
Инвалид на чем-то струнном тренькал-бренькал у реки,
все хотел попасть в мелодию, да, видно, не с руки,
потому что жизнь копейка, да и та коту под зад,
потому что с самолета пересел на самокат,
молодость ли виновата, мессершмит ли, медсанбат,
а березова кукушечка зимой не куковат.
По мосткам, по белым доскам в школу шел, а рядом шла
жизнь какая-никакая, и мать-мачеха цвела,
где чинили палисадник, где копали огород,
а киномеханик Гулин на бегу решал кроссворд,
а наставник музыкальный Тадэ, слывший силачом,
нес футляр, но не с баяном, как всегда, а с кирпичом,
и отнюдь не ради тела, а живого духа для,
чтоб дрожала атмосфера в опусе «полет шмеля».
Участь! вот она — бок о бок жить и состояться тут.
Нас потом поодиночке всех в березнячок свезут,
и кукушка прокукует и в глухой умолкнет час...
Мати Божия, Заступнице, в скорбех помилуй нас.
***
Приходила нечасто и, сев на сундук, молчала
и не в гости, а так, проведать, и я не знал
как с ней себя вести: безответней, тише
я не встречал, наверное, никого.
Мужа её, мальчишку, белого офицера,
после гражданской, помаяв годок-другой,
взяли по разнарядке и расстреляли.
Даша узнала и рухнула где была.
Нашла бельевую верёвку и, не сказав ни слова,
не оставив записки, пошла ослепшая в лес
и долго ходила там, ходила, ходила,
сук не могла найти, и когда она,
не разбирая ни дня, ни местности, вышла из леса,
вышла уже другой...
— Даша, попьём чайку?
Даша с трудом отзывается: — Спасибо, Нюра, —
и продолжает сидеть на сундуке в углу,
где мама обычно спит: сжатые губы
без тени улыбки, волосы на заколке, руки опущенные и глаза -
весь её безответный облик словно бы неотсюда,
не из этой жизни, а голос ломок и бел,
как шелест зимнего камыша... Они дружили,
ещё с девичества, и я всё гадал, о чём,
о чём они говорили или молчали,
оставшись наедине.
— Даша, попьём чайку?
Она глядит безучастно, слышит — не слышит?
— Это же надо, сук не найти в лесу,
думаю я, из блюдечка чай горячий глотая,
а мама в газету ей заворачивает огурцы...
Даша жила в коммуналке. Её девятиметровка
казалась просторной: стол, металлическая кровать
с полуистлевшим тряпьём, табурет и чайник -
вот, пожалуй, и все пожитки — ни занавески в окне ни численника на стене, ничего такого да, еще веник, конечно, она всё время мела,
мела и стирала, и снова мела, и я не уверен,
что это была амнезия, а не суицид.
Однако иконка картонная, Николай Чудотворец,
всё же была прикноплена, а из родни у неё
не было никого, детей завести не успела,
я даже не знаю, когда она умерла
и где похоронена. Даша была блаженная.
Разбирая архив семейный, впрочем, архив —
это громко сказано: пачечка фотографий,
несколько писем, вырезок, адресов,
мне на глаза попал пожелтевший снимок,
не очень чёткий, тогда любили фотографироваться в ателье,
и, значит, он просто выцвел: две женских головки,
одна к другой наклонённые, два цветка,
девический бант у одной, у другой кудряшки,
холщовые юбки, блузки из ситца, и на ногах
сандальи, кажется, или лодочки, обе смеются,
нет, улыбаются, смеяться будут потом,
потом, на любительских снимках, в другие годы
другие лица, а здесь улыбаются: стоп! сейчас
птичка выпорхнет — выдержка две секунды —
и можно будет расслабиться, но это потом,
потом, потом, а сейчас они улыбаются
всеми мускулами лица...
— Даша, попьем чайку?
***
Без хозяина сад заглох,
кутал розу — стоит крапива,
в вику выродился горох,
и гуляет чертополох
там, где вишня росла и слива.
А за свалкою у леска
из возгонок перегорелых
наркоты и змеевика
граммофончик звенит вьюнка
в инфернальных уже пределах.
Страшно мал, но велик зело,
ибо в царстве теней пригрелся,
пожирающий знак зеро.
Вот и думай, мутант прогресса,
что же будет после всего,
после сныти, болота, леса...
После лирики. После эпоса.









