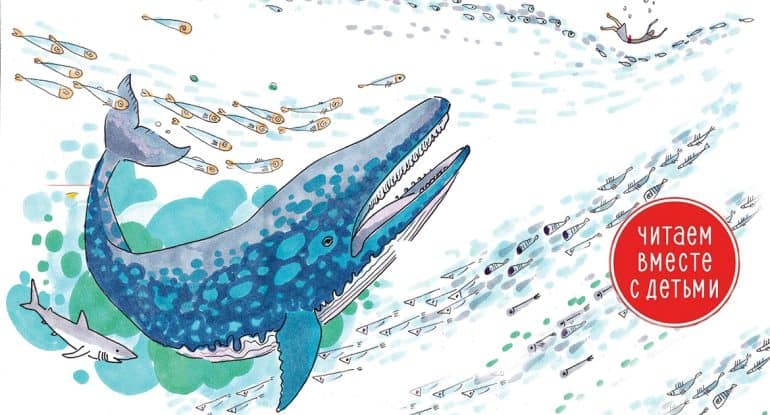Фрески – это когда пишут прямо по свежей штукатурке; по свежей, впитывающей образ основе... По свежей памяти, ибо память – источник всякого искусства: живописец наносит на холст пятно или линию всегда по памяти; композитор торопится зафиксировать в нотных знаках мелодию, которую удерживает в памяти; так и писатель, являясь частью речи, немыслим без памяти.
ИСПОВЕДЬ
У нас строгий батюшка. По воскресеньям он исповедует перед литургией и все ждут, когда, наконец, дойдет очередь до последнего. В этот раз последней была старушка. Глухая почти совсем.
- Вы что, на исповедь? – переспрашивает громко батюшка.
- Да вот пришла, – отвечает на весь храм, – а то, глядишь, помру...
- Грехи-то есть?
- Да как же, много, сынок, и ругалась вот и всяко было. Сильно я грешная. Ребеночка я тогда вытравила, в Круглове жили...
Батюшка быстро оглядывает нас. Но все стоят, опустив головы.
- Имя как? – кричит он.
- Да я не знаю имени-то, он ведь не родился, ребеночек. Я его...
- Твое, твое как?
- Мое? Я еще картошку мерзлую воровала с сестрой. С колхоза...
- Как зовут? Не сестру, тебя как?
- Антонина я... что, не простят меня?
Батюшка не знает что отвечать.
- Сильно грешная я... в войну тоже...
Он торопливо покрывает ее епитрахилью и она затихает, но не совсем, слышно как она еще что-то перечисляет. Ей удобно стоять согнутой, она ведь и ходит так.
- Господи, помилуй ее! – вырвалось у кого-то.
В ДЕТСТВЕ
В детстве моей "вечной" обузой во дворе была сестра, она была младше меня на четыре года. Как-то зимой она увязалась за мною с санками, а мне надо было убежать со сверстниками по своим делам и я, посадив ее на эти санки, безжалостно мотал ее на них, резко разворачивая и опрокидывая на виражах, добиваясь того, чтобы она сама оставила меня и не просилась со мною к ребятам. И надо было видеть, как этот неуклюжий маленький человечек, перевязанный шарфом, в шубке, терпеливо страдая, вставал после каждого падения и усаживался обреченно в санки и опять вставал, не смея заплакать...
Сейчас я возвращаюсь в детство и уже не убегаю, добившись-таки ее горького плача и отказа идти со мной, нет, я бегу к ней, к своей сестренке и целую ее, и отряхиваю ее от снега, и не нужны мне никакие ребята и никакие дела, я прижимаюсь к ее морозной щечке и шепчу: "Прости, прости меня, Юлька, не плачь, я никуда не уйду, я не брошу тебя..."
СКАЗКА
"...Вышла она, ножкой топнула, ручки веточками пораскинула, зацвелась, зарделась вся, ягодка сладкая, смородинка, яблынька белая, ухоженная. Что ж тебя не берет никто, мимо ходят, за метлою пустою гонются, а сюда и не глянут как следываит? Для кого ж она така беленька стоит, кому достанется? Никому не досталася. Кончился ее бабий век, опустила рученьки, пригорюнилась.
Вдруг – стук-постук, на пороге – друг! Среди ночи гром-война, открывай ворота, встречай – ура! Душа обмерла..."
- Ты че, сказку слушаешь?! Пошли, нас пацаны ждут, скорее, там Фана билеты достал, понял! Надо еще шарфы и флаги успеть забрать, понял! Ие-ес! Сегодня мы им дадим за тот раз! Скорее, бежим!
"Интересно чем же там кончилось с этой, которой не везло, – думал он по пути, – не может быть, чтобы так кончилось... "на пороге друг". Конечно, все будет хорошо, конечно... В сказке всегда так бывает...
Через тридцать лет он вспомнит об этом. Будет и гром и война. Будут и ворота. Он постучится в дом во время грозы, вымокший до нитки, и она откроет ему.
Вот тогда и вспомнит...
ВОТ ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГОМ
Вот если бы я был богом, я бы не удержался и провел рукой по верхушке леса. Это совсем не больно – как по метелкам полыни, так ведешь по ним долго, медленно... а если вдруг что-нибудь упало: труба там или вышка, я бы поднял и поставил на место. Обязательно. Или летит, допустим, самолетик, а я бы его взял так тихонько под крылышки – и опа! – перенес его вмиг куда нужно. Вот бы все обалдели. Конечно, я помогал бы чем мог... Все-таки для всех людей я бы, пожалуй, богом не потянул. А вот для своих, для друзей, для тех, кого знаю и помню – другое дело. Я бы собрал их вместе и сказал: "Знаете как я вас люблю всех, дорогие мои!" И дочке бы сказал: "Ты не обижайся уж так на папку своего, он, знаешь, все время о тебе думает, ты бы приехала к нему..."
ВЕСНА
Весна. Какая грязь. Какое небо! Великий пост, великое очищение. Ногам противно, а душа поет. В соснах уж столько июльского солнца, а воробьи на глазах превращаются в пузатые свистки и верещат, как зарезанные!
Ослепительные ручьи, дерьмо и мусор. Внизу невыносимо гадостно и стыдно пред чистотою неба.
Труднейший труд: "... избави мя от всякия нечистоты..."
КОТ
Я знаю одного кота. Он тоже знает меня. У нас особые отношения. Он почему-то считает, что участок под моим окном до соседского заборчика принадлежит ему. Я с этим не согласен. Во-первых, я здесь живу, правда, он тоже, но я поставил на участке стол, вкопал скамью, обустроил, никто из соседей не возражает и вообще... Этот кот залезает на стол с грязными ногами, еще и развалится демонстративно на виду, мало того, он орет по вечерам под самым окном, без всякой надобности и оправдания, к тому же повадился лазать в подпол через дыру под крыльцом, которую я все собираюсь заделать. Несколько раз мне удавалось попасть в него огрызком яблока, но это пока все чем я могу похвастать. Всю зиму он непременно оставляет на участке "пару строчек" следов, не ленясь отпечатывать их после каждого снегопада, как своего рода "письменное" подтверждение права на это место.
И вот возвращаюсь я домой, вижу – сидит у меня на крыльце, стервец, лицом к двери главное, как будто в гости пришел. Нашел я пруток погибче, подкрадываюсь сзади, замахнулся... А он повернулся так, посмотрел вроде как "да ладно тебе"... Постоял я с поднятой рукой, сел рядом. Честно говоря, у меня тоже настроение было не ахти... Посидели маленько. Вечер-то теплый какой... Да, скоро весна...
ВОСКРЕСЕНИЕ
Апрельский день тянулся нескончаемо. Наступил длинный вечер. На улицах поселка уже ни души. Пробежала собака. Пронеслось несколько машин, синий воздух темнеет с каждой минутой. На окраине, у шоссе стоят у ларьков и колобродят подростки. Бесконечный конвейер автомобильных огней: красные, как угли, - вниз, белые слепящие - навстречу. Мигает светофор. Разговоров почти не слышно. Люди идут, вытягиваются вдоль шоссе, идут парами, группками, поднимаются на взгорок... Вокруг церквушки море народу. Подходят и подходят. Здесь одна молодежь, многие курят, но не явно. Внутри тесно, жарко, битком. Идет служба. Поет маленький неспетый хор. Иногда вдруг слышен бас. Душновато. Не то что кланяться – креститься невозможно. Батюшка поет торопливо, все время подходит к хору, что-то подсказывает. Те, кто помоложе, протискиваются вперед. Со всех сторон передают свечи, шепчутся, подталкивают, напирают. Алтарники готовят хоругви, что-то падает.
Хор очень старается. Становится еще теснее. Пьяного парня выталкивает к выходу ласковый старичок. Тот несказанно удивлен, но почему-то подчиняется. Он все-таки пытается угрожать и сопротивляться, но нет, не получается. Все бабульки сбились у правого клироса и в глубине тоже кивают одни платочки. Парко от многого дыханья, от сотен свечей. Наконец батюшка выходит в золоченой ризе с трехсвечником. Закачались хоругви и фонари, народ стал раздаваться к дверям. И вот поплыл старушечий ручеек с иконами на полотенцах, следом благообразный староста, хористки, за ними высокий скалоподобный "бас", потом двинулись остальные, зашатались головы, плечи. Все с красными свечками, которые вставляют в бумажки и обороняют от ветра ладонями. В притворе снова застопорилось – у батюшки что-то с кадилом. А на улице – тьма, во тьме море людей, россыпи огоньков трепещут и гаснут. По ходу какая-то неразбериха, под ногами мрак.
Впереди замешкались, выбирая дорогу; задние наступают на ноги, спотыкаются; хор пытается петь: батюшка говорит кому-то, показывает, сердится— "Чистым сердце-ем". Крестный ход огибает церковь, поет, подпевает старательно. У батюшки погас трехсвечник, ему дают огонька, идут, чмокая по лужам, по глине, стукаясь по доскам, по кирпичам. Вот стали у входа. Двери закрыты. Пальцы красные от воска, головами все к батюшке Батюшка поворачивается, и: "Христос воскресе!"
"Воистину воскресе!" – вскрикиваем испуганно. С каждым разом все радостней, нетерпеливей. Кричат все. Прорвалось. Двери отворяются, ходоки вваливаются в церковь, топают. Начинается пасхальное богослужение, хор поет весело, похоже на плясовую, батюшка кадит, ходит быстро. Он то в одной ризе, то в другой выйдет: красный, зеленый, белый, золотой! Народ схлынул. В церкви свободно. Стоят те, кому причащаться.
Ночь теплая... Воскресение.
БЕСНОВАТЫЙ
В храме притушили свет. Служба закончилась. Осталась последняя горстка людей, стоящих на исповедь, человек семь, не больше. Сейчас должен идти я, батюшка дал мне знать, а пока я переминаюсь с ноги на ногу и стараюсь не думать о пояснице, которая давно уже мечтает только об одном.. Батюшка тоже устал, но я не столько вижу его усталость, сколько догадываюсь о ней, от его плоской сутуловатой фигуры с длинными узловатыми руками веет древним родным монашеством, он слушает. Женщина уже исповедалась, но не уходит, о чем-то просит батюшку, просит умоляющее-неотступно, показывает вглубь храма, он кивает ей и смотрит на меня. Я понимаю, что моя очередь сдвигается еще на одного человека и вздыхаю мученически.
Женщина кого-то зовет, убегает, ведет и подталкивает осторожно какого-то рослого парня, и тот встает передо мной, перед всеми нами, отстоявшими добросовестно более трех часов, он встает, крепко расставив ноги, мы видим как священник ласково то ли спрашивает о чем-то, то ли уговаривает его. Парень поднимает голову, и она поворачивается к батюшке, похожая на башню тяжелого танка. Следующим движением он хватает батюшку за нос и наотмашь бьет его, но батюшка успевает вырваться и увернуться. Стоящие рядом мужчины оттаскивают хулигана в сторону, но он ходит, ищет прорваться к священнику. На него страшно смотреть, вместо лица - мертвая белая злоба. Мы встаем перед ним, и я наконец-то готов к драке, я жду момента. Откуда-то взялся небольшого роста парнишка, обнимает его, говорит ему что-то как старшему брату, убеждает и утешает по-свойски, даже уводит его за колонну. Батюшка огорчен, но мать снова просит, просит неотступно, как будто ничего не случилось. Батюшка пожимает плечами. Она что, рехнулась, не видит разве, что это невозможно, что его и близко нельзя подпускать к батюшке, о чем она просит, она ненормальная!
"...Он обязательно должен причаститься, понимаете, обязательно, Вы должны..." Снова шум, парень бьет своего "утешителя", качаются и звенят лампадки, спешу туда и уже знаю как буду бить – так чтоб не встал. Его держат за руки, он вырывается и рычит, какая-то женщина, опережая меня, с бутылкой святой воды, подбегает к нему и полными пригоршнями начинает умывать его, как непослушное дитё, привычно и споро, не давая опомниться. Парень откидывает голову, падает на колени, его начинает трясти, он бьется, он орет пугающим голосом, потом воет, потом сникает и вот уже рыдает жадно, захлебываясь, словно дорвавшись-таки до этого всей душой.
- Молитесь, молитесь все! – просит батюшка, он осеняет его крестом, брызгает святой водой и все громче, все увереннее читает над ним молитвы.
Один из держащих несчастного прижимает к себе его голову и целует его, кто-то гладит его по щеке, все стараются говорить что-то доброе, сажают его на лавку, обнимают, все молятся, крестят и крестятся... я разжимаю кулаки. Мать хлопочет, ей неудобно и радостно, "... о, женщина, вера твоя!.." Парень мирно всхлипывает. Батюшка накрывает его епитрахилью. Плачет и кается вслух парнишка-утешитель: он, оказывается, ударил один раз этого парня.
Так горько плачет, ему и невдомек, что он взял мой грех на себя. Господи, среди нас нет никого грешнее меня!
ДЕНЬ ЗАКАНЧИВАЛСЯ КАК ОБЫЧНО
День заканчивался как обычно: приятель подвез его до метро и они весело расстались, потом он доехал на метро до вокзала, потом ехал в электричке, сидя в углу у окна, потом вышел в "Красково" и долго шел по зыбучему, жирному снегу в свое пустое жилище и как всегда он не думал о ней, он не думал ни о чем таком и не вспоминал и совсем не жалел, он устал, предстояло готовить ужин или хотя бы чай, но и это прошло как-то незаметно. Быстрая сытость тянула в постель, но предстояло еще помолиться и он заставил себя встать пред лампадкой.
Он вздохнул и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Отче наш...» И тут услышал в себе потрясающе тихий Голос: «Что, сынок?..» Больше он не смог произнести ни слова молитвы. Он стоял и плакал и не мог остановиться.
Утром он проснулся и вспомнил об этом. И не поверил: разве может быть Бог так рядом, так по-отцовски близко, к нему?! Он поднялся, умылся, наскоро вытерся, предстояла молитва. Он подошел и встал пред лампадкой...
ИДЕТ РАБОТА НАД ФРЕСКОЙ
Идет работа над фреской. Нанесена штукатурка. Теперь только вперед, пока она свежая. Прикладывается картон с рисунком, протыкаются шильцем контуры, припорашивается порошком. Убираем картон, соединяем кистью точечки абриса. Краски уже намешаны, все наготове. Берем эскиз. В нем намечено то, что мы желали бы получить, чего мы будем добиваться по мере сил. Хотя это всего лишь фрагмент. Мы пишем, меняем кисти, мешаем сходу цвета... Покрикиваем на помощников, пинаем препятствия под ногами, ворчим на погоду... Краска уходит в известь, пропитывает ее насквозь. Когда высохнет штукатурка, – исправления бесполезны, можно только сбить ее со стены и начинать заново. Отходим, смотрим. Как будто бы неплохо, но, честно говоря не так, как мы хотели. Еще можно поправить. Нет. Поздно. Темнеет. Ноют спина и руки. Вспоминаем вдруг, что голодны невыносимо.
Завтра будет другой фрагмент, та же работа... Так заполняются стены храма. Моем руки теплой водой, шутим устало, прячем досаду. Мы так привыкли, по-другому нельзя. Ночью мы смотрим в темноту, нам кажется, что следующий фрагмент будет лучше. Мы просыпаемся с этим чувством, мы почти уверены в успехе. Идет работа над фреской...
Читайте также вторую и третью части «Фресок» Максима Яковлева, опубликованные в журнале «Фома».