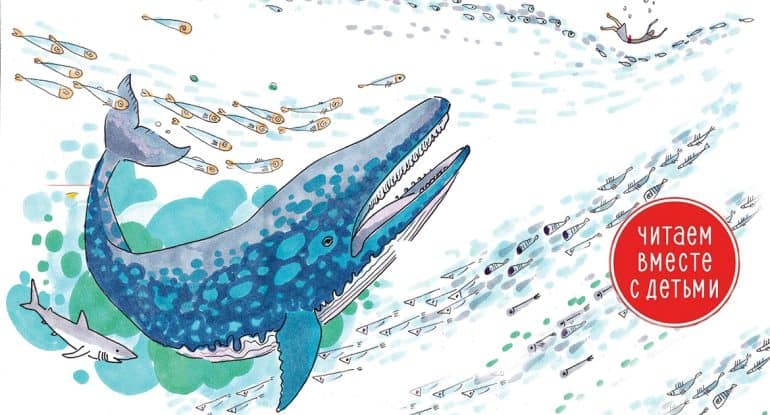Мальчику Даниилу
Было холодно. Особенно мёрзли пальцы. Три спички сломала, прежде чем газовую плиту зажгла.
Розы…
Розы, розы – не какие-нибудь, а бордовые, каждая – с мой кулак.
Завяли. В помойное ведро их! Не хотят – наружу просятся.
Глупые!
Глупые, глупые… И пахнут фатальностью.
Моя сестра Алёна говорит – они потому долго не стоят, что их химическими составами обработали: везли ведь издалека. Но я-то знаю: любви нет, вот и завяли до срока.
Я всё видела.
Неделю назад, после репетиции, затянувшейся, по обыкновению, до одиннадцати часов вечера, я помогала собирать реквизит в театральной студии «Круг». На этот спектакль я осталась без роли. Это произошло то ли из-за моих светлых волос и отказа перекрашивать их, то ли оттого, что в парике я выглядела ужасно и неубедительно, словно незавершённый карандашный рисунок. Или из-за сессии в «Керосинке», которая, хоть и на заочном отделении, требовала уйму сил и времени, а, может – просто проверяли на вшивость: останусь ли я, и буду таскать реквизит или уйду в «оппозицию». Я осталась. Три года «Круг» был для меня домом, в котором я жила, играла и любила. Олег. Зоя. Зоя. Олег. Все ведущие мужские роли были его. Все главные женские – как правило – мои. Почти двенадцать месяцев мы вместе.
Тогда, в одиннадцать вечера, последняя реплика прекрасной Турандот утонула в чёрных кулисах, тяжёлая драпировка задника устало зевнула, от дальних кресел медленно поползла ночь, и наш театральный мир сузился до небольшого, тёмного по углам зала. И чем меньше оставалось на сцене стульев, лент, расписного батика и кувшинов из папье-маше, тем ближе придвигались стены.
Помощник режиссёра Лёва – круглый, безнадёжно лысеющий в свои двадцать шесть – рассказал смешной анекдот про то, как легко можно убить блондинку: положить зеркало на дно глубокого бассейна. Все дружно захохотали, причём каждый второй по-братски дёрнул меня за высокий белый «конский хвост». Я не обиделась. Смеются! Это они не со зла! Подумаешь – роли не дали! Зато все Золушки и Снегурки – мои. Через пару недель прогон «Ёлок» начнётся. Пусть бурятка Валя почувствует себя хоть на полсезона королевой. То есть принцессой. Ставили «Турандот».
Я улыбнулась, а на пороге весело махнула рукой: «Да ну вас, чосеры!» У меня такая привычка: всегда обзывать «чосерами» тех, кто подтрунивает надо мной.
Потом… Какое тёмное слово! Темнее, чем наш пустой зал, когда запираешь большим, тронутым ржавчиной ключом дверь и в последнюю секунду заглядываешь в щёлку.
Потом я поднималась в верхнюю гримёрку, нагруженная до подбородка книгами, суфлёрскими папками, поправляя под мышкой тюк со скрученными лентами (их учились перебрасывать друг другу в диалогах – по новаторской режиссёрской задумке), и размышляла над тем, что я приготовлю на воскресный обед, когда ко мне придёт Олег. На вытянутой левой руке аккуратно висела зелёная режиссёрская шаль, мять которую не разрешалось.
Я её смяла, едва открыв бесшумную дверь, (лучше бы она скрипела!) и увидев, как мой Ромео (Джульетту ведь играла я!), а ныне – император Китайский Альтоум самозабвенно целует принцессу Турандот. Я помню, как начала тонуть, захлёбываясь воздухом, который внезапно стал давить силой ста атмосфер… И в последнюю минуту самым чётким явлением на Земле были полные Валины пальцы, теребящие синий Олежкин шарф, связанный моими худенькими пальчиками.
Может быть, когда я бросила всё, что держала в руках, нужно было выбросить и его.
Но он остался.
Полночи звонил по телефону, придушенному подушкой в моей комнате. Мобильных тогда не было. В соседней комнате проснулась мама, и было слышно, как она пошла на кухню. Зашумела вода из-под крана. Отец приоткрыл дверь и, поставив передо мной будильник, вежливо попросил разбудить его в шесть пятнадцать. Я выдернула телефонный шнур и накрасила ногти чёрным лаком. Надела большие наушники и на мощных басах включила «Алису». Не помогло. Через полчаса поставила диск Грига и под «Норвежский танец № 4» стёрла чёрный лак. Не помогло. Тяжёлый сон, пришедший на рассвете, не стал спасением от гнетущего чувства тоски – глухой и холодной.
В девять утра Олег звонил в дверь. Родители уже ушли, и я несколько минут разглядывала в глазок ставшее в круге смешным, приплюснутое с боков лицо и нос, похожий на настоящую украинскую галушку. Олег заметно волновался, а я думала, какие у него неровные нижние зубы. На самом деле мне хотелось только одного: распахнуть дверь и кинуться ему на шею, вдыхая любимый аромат «Fendi», целуя, и посылая к лешему и эти кривые зубы, и розы, которые он зачем-то прятал за спиной, и Турандот, а особенно – полные пальцы, расковырявшие петлю на синем шарфе.
Веки моргали чаще, глаза щипало и резало, на кухне растерянный чайник из последних сил солировал фальцетом, но я по-прежнему стояла и упрямо смотрела в свою «позорную трубу». Наконец, Олегу надоело делать вид, будто он не знает, что я наблюдаю за ним, и ему пришлось, отступив на шаг назад, обречённо упасть на колени.
Я пошла спасать охрипший чайник. Не спеша, налила кипяток в заварочную кружку, накрыла её фарфоровой крышкой, сверху – прихваткой, намазала маслом кусок «Бородинского»…
За дверью Олег громко запел «Когда-то был я странной игрушкой безымянной. Ко мне на День рожденья никто не приходил…»
Есть не хотелось, но я насильно проглотила большой кусок бутерброда и на цыпочках подкралась к входной двери.
«Теперь я – Чебурашка, и каждая дворняжка при встрече сразу лапу подаёт!»
Замок повернулся так быстро, будто этого только и ждал.

– Я свинья! – честно признался Олег и протянул мне бордовый букет роз – каждая с мой кулак.
– Она же тебе дочерью приходится, – пошутила я, хотя и не собиралась этого делать.
– Не понял,… – удивился Олег, – в каком смысле?
– Дурак ты, Ваше Китайское Императорское Величество!
– А… в этом, – облегчённо вздохнул предатель и принялся преспокойно подниматься с колен, держась за дверной косяк.
Эта уверенность, что я его простила, что вот так – пришёл, пихнул импортные розы, которые я терпеть не могу, а перед этим ночью спать не давал – и всё! – дело выиграно! Эта сытая уверенность прирученного, но гуляющего, где и когда ему вздумается, кота, подлизывающегося у двери, чтобы его впустили и почесали за ухом, прогнали блох и позаботились об его полноценном питании!
Олег протиснулся в прихожую, силой поцеловал меня, потащил за собой на кухню, как будто он был хозяином квартиры.
– Розы в ту вазу поставим – Алёнкину? – спросил он, приспособив букет на подоконнике и наливая себе в стакан чай из моей заварочной кружки. – Горячий! На улице: брр… Слякоть и колотун. Маслице – икорное, ничего, если я пока на палец? Зоюш, дай хлебушка, а?
Неожиданно для себя, я размахнулась и сильно ударила Олега по щёке. Стало очень страшно и холодно: до этого момента я никогда никого не била, только комаров на даче.
Звук пощёчины, потом звон разлетевшейся на осколки фарфоровой крышки, которую выронил Олег. Потом дыхание, не помню чьё. Потом - тишина.
Он быстро вытер губы, испачканные маслом, поставил на стол стакан, в который успел плеснуть лишь немного чая, бросил короткое: «Правильно», - и, ссутулившись, чего раньше не делал, вышел из кухни. Я услышала, как он споткнулся в сумраке коридора о тумбу для обуви, и в прихожей хлопнула дверь.
Объяснить Лёве то, что я больше не приду в «Круг» казалось невозможным. Он был в курсе ситуации, но не мог взять в толк, что ни спектаклей со мной не будет, ни «Ёлок», которые скоро «загорятся» синим пламенем, ни даже репетиций, где я покорно таскала реквизит. Не будет ни афиш, ни ремарок, ни анекдотов…
По телефону не видно его лысины, и он чувствует себя уверенней.
– Ну хочешь, в баре посидим, по-дружески?
– Нет.
– У Аверина через два дня день рождения. Там вся богема соберётся, пойдём со мной, я скажу, что ты моя девушка, просто иначе они не поймут…
– Нет.
– Зой, да ну, перебесись, скоро последний прогон, приходи!
– Нет!
Телефон напрасно ждал и жил на виду: Олег не звонил. Я прятала трубку под матрас, думая, что смогу утешить себя мыслью: «Наверное, звонил, но я не слышала».
Когда я, в очередной раз, бросившись на звонок, как овчарка по команде: "Фас", скинула на пол подушки и одеяло, услышала голос институтской подруги.
– Зайкин, поделюсь, чем Бог послал. Есть два варианта «сопромата», три – «чермета»…
– Марусь, ты гений!
Встретились на детской площадке. У Маруськи двое детей, как говорил Новосельцев: «Мальчик и … тоже мальчик». Старший дома с уроками остался, а младший – Данька, с мамой по городу путешествует. Носится – пятилетний, счастливый по ноябрьскому песку, перемешанному со снегом, холодный ветер из кармашков вытряхивает, на перекладине кувыркается, смотрит хитро, улыбается калорийными щёчками.
– Холодно, - говорю я старшей подруге. – Всё замёрзло: и дела, и мысли, и любовь…
– А, может, ты, Зайкин, беременна?
– Не думаю.
– Иди в театр, иди танцевать – это твоё!
– Мне роли не дали! Какой театр?! Всё плохо!
– Всё хорошо!
– Меня никто не любит!
И что она улыбается?!

Данька подлетел к скамейке, на которой мы сидели, врезался в мои джинсовые коленки, в кулачке что-то сжал и радостно так смеётся: «Тётя Зая, это тебе-вам подарок!»
Застеснялся и прижался к маминым коленям, а ручонку мне тянет.
– Что там у тебя, солнышко?
– Там – дерево! – задохнулся от восторженного шёпота Даня и раскрыл ладонь.
На детской ладошке лежал высохший, окоченевший обрубок тонкой веточки с одной, удивлённо поднятой «рукой» и мелкими пупырышками, видимо служившими заменой почек. Или - почек и сердца.
Я бережно взяла веточку двумя пальцами, поднесла к лицу: запах сада, лета и жизни, запах земли, по которой босиком бегают дети. Ноябрьский ветер напомнил о себе, подув ледяным дыханием в затылок. Я накинула капюшон.
– Смотри, Маруська, это моё дерево! Если оно распустится – Бог есть.
Маруся засмеялась, как всегда это делала, когда ей было что-то непонятно, но она считала, что правильно разгадала человека.
Дома я подышала на дерево, чтобы оно согрелось, и поставила его в крохотную вазочку (ведь и дерево-то размером с мой безымянный палец) – рядом с иконами. Безымянное деревце… Капнула на донце воды. Иконы мамины. Она верит в Бога – просто и без доказательств. Но мне жизненно важно: да или нет. Есть или пустота. Одна или нужна.
Я стеснялась смотреть в глаза той иконы, на которой Христос смотрел на меня. «Спас Нерукотворный». Глаза внимательные: всё про меня знают.
«Лучше я буду просить Того, Кто в венке из прутьев: Он отвернулся чуть-чуть, и не следит за мной», – решила я и начала вымаливать себе чудо.
«Ну как, как мне понять, что Ты есть?! – мысли рвались наружу и теснили друг друга. – Кругом серая краска, предательство, холод, а Тебя нет! Я одна, мне плохо, я страдаю! Если Ты есть, вдохни в неё жизнь! Пусть она распустится! Сделай это для меня! Пожалуйста…»
Наверное, от такой невинной дерзости оторопели бы все верующие люди, а тем более – епископы, архипастыри и кто там ещё есть важные. Но Бог почему-то меня понял.
В первый раз я так устала от молитвы (оказалось, что искренняя – она забирает уйму сил), что буквально упала на кровать. На следующий день всё повторилось снова, но с большим усердием. И на улице, и в метро, и дома я упорно твердила одно: «Господи, пусть она распустится!» Вода и дыхание – вот всё, что я могла для неё сделать. Остальное – Бог.
И в третий день…
Свет, ровный и спокойный пробивался через неплотно занавешенные шторы. В комнате пахло весной. За окном стоял ноябрь. Я подскочила к своему дереву.
На тонкой сухой веточке, которая умещалась на детской ладони, тянулись к свету они – крохотные, прозрачные, и того зелёного цвета, какой бывает только у новорождённой листвы.
Так сильно я ещё никогда в жизни не плакала.
А потом появилась и Снегурочка: она пришла в монастырский приют на Рождество в кафтанчике из крашенной голубой гуашью марли и кокошнике из фольги от шоколада. И приютские дети верили в неё.
Как и она - в Бога.
Осень 2004 – весна 2005 гг.
На заставке фрагменты фото messycupcakes