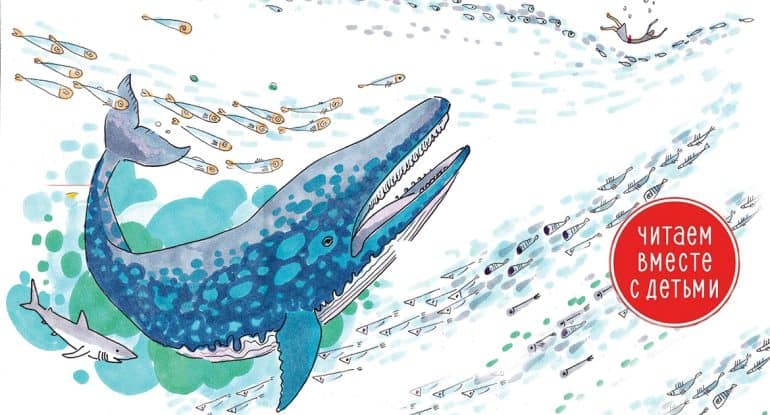Роман «Безбилетники» — история захватывающего, полного приключений путешествия в Крым двух друзей-музыкантов. Автор романа — постоянный сотрудник журнала «Фома» Юрий Курбатов. Подробную информацию о романе и авторе и полный список серий смотрите здесь.

Том уже неделю лежал в отделении нейрохирургии. Лечащего врача, крупного пожилого человека с одутловатым лицом и щеткой коротких усов, он видел только один раз, в первый день, на обходе. Тот что-то спросил, медсестра скупо ответила:
— Сoncussion, пенталгин два, циннаризин, два.
— Сoncussion! — Врач задумчиво кивнул, и отошел к следующей кровати.
Больница напоминала санаторий: все лечение заключалось в том, что два раза в день ему давали таблетки и меряли температуру. Иногда он играл в шашки с двумя другими соседями по палате. Впрочем, их обоих — деда Петра и Евгения Семеновича Щербакова, — отправили домой дня через три после его поступления. Их выписка вначале обрадовала Тома: дед Петро, крупный сельский мужик, получивший травму головы при падении с лестницы, был хроническим курильщиком и нещадно храпел по ночам, а Евгений Семенович Щербаков, актер театра, пострадавший от обрушения декораций, болтал без умолку. Чувствуя в себе великий, но не оцененный начальством дар, он беспрерывно рассуждал о всеобщем падении нравов, духовной нищете и невозможности реализоваться в таких условиях его природному гению. Том был рад остаться один, в большой бледно-розовой палате на шесть коек. Пару дней он наслаждался тишиной, но потом стал скучать, — по друзьям, по дому.
Чаще всего приходила мать. Она передавала приветы от друзей и всякую домашнюю вкуснятину.
— Вот возьми, я котлеты сделала, — очередной раз говорила она, разворачивая тяжелый, еще теплый сверток. — Мне разрешили. Вот огурчики с дачи, кукуруза вареная, вот вишневый компот. А чай не разрешили.
— Да хватит, я не съем столько. Тут нормально кормят.
— Может кого из друзей угостишь?
— Ко мне никто, кроме тебя не ходит.
— Ну, может придут еще.
— Может. — Том спрятал припасы в тумбочку, сходил за кипятком на пост, и вскоре они пили душистый мятный чай. Мать рассказывала об огороде, о соседях по участку, о медведке, которая изрыла весь огород, и которую наконец удалось зарубить, об урожае и поливе, о мелких дачных новостях и всяких пустяках. Тому не хотелось ее отпускать.
— Сонечко, наш сосед, где-то сварку достал. Обещал нам калитку приварить. Не помнишь что у нас еще заварить нужно? Из головы вылетело.
— Не помню. Хотя… Тяпка вроде ж лопнула.
— Точно, тяпку. А я и забыла совсем.
— Он за так заварит, или нет?
— Сонечко? Заварит, конечно. Но ничего не возьмет. Золотой человек, и руки у него золотые. Но я ему стакан налью, — в знак благодарности.
— Что там папка? Видела его?
— Нет, не видела. Соседка из второго подъезда видела, — пьяный шел. Все по-прежнему.
— Мам, а как оно так получилось?
— Что именно?
— Ну, с папкой. Вы же когда женились, — наверное мечтали вместе жить, до смерти. Как оно произошло, что все лопнуло, по швам разошлось?
— Как? — Ее голос слегка дрогнул. — Не было какого-то момента… Просто как-то шли-шли, шажочками маленькими. И дошли.
— Но вы же любили друг друга?
— Конечно любили. — Она скрестила руки, отвернулась к окну. — Теперь мне кажется, что это было так давно. Как вроде и не со мной. Или в прошлой жизни…
Поначалу все было более-менее хорошо, а потом у них случился тот злополучный эксперимент. Запускали какой-то агрегат, и на испытательном стенде не увидели дефекта. Погибли люди. Как водится, по шапке получили все, в том числе и те, кто ни сном ни духом, — просто числился в рабочей группе. Папку, как одного из участников, перевели в Слобожанск, но только уже рядовым инженером в заштатный НИИ. Он тогда еще думал, что всё везде одинаково, что толковому сотруднику везде открыта дверь. Поначалу даже какие-то проекты выдвигал, что-то там рационализировал. Но, как говорится, против коллектива не попрешь. Если там ребята были увлеченные, с горящими глазами, то здесь оказалось полное болото. Смысл работы сводился к победным квартальным отчетам, а энтузиазм коллег проявлялся только на юбилеях. И предложения папкины уже звучали только в форме тостов.
— А потом?
— А потом он потихоньку пить стал. Сразу жизнь вокруг закипела, новые друзья завелись. Ну, как друзья, — собутыльники. В таком возрасте новых друзей не бывает. Да ты их всех наверное помнишь. Сейчас, конечно, меньше стало: кто умер, кто уехал, кто бросил. А в те годы… Он говорил, что смысл жизни потерял, а я, дура, тоже этому значения не придавала: у него карьера сломана, он просто пар выпускает. Заливает несправедливость. Я думала, что все образуется, нужно просто время прийти в себя, а потом... А потом становилось только хуже. Скандалы пошли, крики, мат. Сколько выпить и где, — он уже решал сам. На своем огороде — только за магарыч. Я говорю: посмотри, кто твои друзья? Они же только за твой счет пьют, а потом еще и вещи из дома тащат. Книги редкие ушли, инструменты. И утихомирить его нельзя, он же бывший боксер. Бил без разговоров. Протрезвеет, — прощения просит. А через три дня — опять.
— Он же лечился?
— Два раза лежал. Потом по методу Довженко кодировался, добровольно. В последний раз полгода не пил. Я уж было думала, что наладилось все, хотя и злой он стал, как собака. Раздражался на любую мелочь. Но я думала, что это пройдет. А потом какой-то доктор-собутыльник объяснил ему, как развязаться. Ты, говорит, по чайной ложечке пей, сегодня одну, завтра — две. Мне подруги столько раз говорили: разведись, — так хоть алименты будут. А то — ни жизни, ни помощи. Но развод — это просто формальность была, семьи-то уже давно не было…
Мать вздохнула, убрала с лица волосы.
— Я, конечно, тоже виновата. Прозевала момент, когда нужно было коней придержать, но мне ссор не хотелось. Думала, что в будущем все оно как-то само собой рассосется, устаканится. Увы. Если что-то и менять в жизни, то вот прям сейчас, а не завтра. Если на завтра перенесешь, то ничего не выйдет. Моргнуть не успеешь, — а годы пролетели. Сейчас смотришь назад, и понимаешь, что жизнь таких ошибок не прощает.
Она замолчала. Том поставил чашку, бессмысленно глядя перед собой.
— А потом?
— А потом, чтобы не делить имущество, собрали деньги. Дедушка помог, вошел в положение. Кое-что продали, влезли в долги, и купили ему однушку в соседнем дворе. Успели, пока всё не рухнуло. Хотя я потом, после работы, еще несколько лет полы мыла, чтобы с долгами рассчитаться.
— Ты мне это не рассказывала.
— Так и разошлись. Еще были какие-то надежды, до того случая с юристом, как его там…
— Галушко.
— Ты его фамилию помнишь?
— Да уж, такое не забывается.
— Ладно, заговорилась я, — мать вздохнула. — На дачу нужно ехать, поливать, а то воду после десяти отключат. Ты как выздоровеешь, — нужно работу искать.
— Та знаю я. — Он посмотрел на свои руки. — На железку в путейцы я точно не вернусь. Надо было сразу после школы не в ПТУ, а в институт, на инъяз.
— Если ты в институт надумал, то документы нужно с начала лета подавать, и ко вступительным готовиться. Ты не тяни. А куда хочешь?
Он пожал плечами.
— Ладно, отдыхай, — мать тревожно посмотрела на него, поднялась, машинально поправила волосы. — Поехала я.
— Я тебя провожу.
Они вышли на улицу.
— Ну привет. Выздоравливай!
— Пока, мам.
Он махнул ей рукой, и долго смотрел вслед. На него вдруг нахлынуло непривычное чувство отчужденности.
«Кто эта женщина? За что она меня любит? Чем она мне обязана?»
Он будто впервые увидел ее, — такую знакомую и в то же время бесконечно далекую, постороннюю его внутреннего мира.
«Эта женщина — мать. Мать — это такой человек, который тебя родил и с тех пор зачем-то заботится о тебе. Она пришла тебя проведать. Ты живешь в специальном доме. Люди вокруг дают тебе таблетки, чтобы ты стал такой, как раньше».
— Да, крепко башку отшибли. — Усмехнулся он сам себе, медленно выходя из оцепенения. Встряхнулся, и побрел в угол больничного парка к уже полюбившейся скамейке. Сел, вытащил из кармана припасенный с обеда хлеб, покрошил голубям.
— Би-иббиибиб! — Раздался за спиной громкий звук автомобильного сигнала. Птицы пугливо вспорхнули, и тут же поспешили к скамейке.
— Что на пенсии! — Том тоскливо глянул через плечо, — туда, где за прутьями высокой кованой ограды спешили по каким-то своим делам прохожие, неслись куда-то машины. Ему вдруг отчаянно захотелось перемахнуть через забор и раствориться в городской суете, — да хоть бы и так, в белых кальсонах с мелкими зелеными пятнами «Минздрав» и нелепых домашних тапочках.
— Больной! Идите уже в отделение, ужин! — Строгая медсестра из окна призывно махнула ему рукой.
В столовой висел тяжелый жирный запах казенной еды. Казалось, его источали даже сами стены. Места у окна с видом во двор как всегда были заняты. Он подсел у коридора к какому-то новенькому больному, морщинистому деду с перебинтованной головой.
— Хорошо кормят, — довольно чавкая, проговорил тот. — Я во второй лежал. Там суп — одна вода и морковка. А тут еще и добавки можно попросить. А салатик! Прям как с огорода!
— Ага! — Том машинально кивнул, глянул себе в тарелку, и вдруг провалился в яркое воспоминание. Прошлый сентябрь, по-летнему теплый вечер. Только зашло солнце, и вечерняя прохлада уже разливалась по окрестностям. В зарослях вишни заливалась соловьем варакушка, где-то чуть подальше, в болотце, утробно квакала жаба. Он только вернулся с репетиции, мама стояла у плиты и жарила картошку.
— К вам можно? — С порога сказал он.
— О, какие люди! — Мама обрадованно обняла его. — Привет, Егор. Ну, как дела?
— Нормально отыграли, у нас уже почти часовая программа. Только Монгол как всегда тупил на барабанах. Половину репетиции одну песню гоняли, а толку нет. Скоро сейшн в ДК, а он лажает на ровном месте.
— Сейшн — это концерт?
— Ага, когда команд много.
— Может ему подучиться где-то?
— Где он у нас подучится? Есть, конечно, Лебедь, — это лучший ударник города, но он себе конкурентов плодить не хочет. Так Монгол у Дрима видак взял, с кассетами разных групп. Смотрит, как они работают, а потом по кастрюлям повторяет. Но толку пока мало. Если не считать того, что у соседей снизу люстра упала.
— Бедные соседи.
— Ага. Я поначалу думал, что он наврал. Он вообще мастер по ушам ездить. Но потом я этого соседа у Монгола на дне рождения видел. Вдребезги, — говорит, — чуть кошку не зашибло. Рассказывает, а сам радостный такой.
— Монгол… Его же Саша зовут? Он так на вас не похож.
— Не, он нормальный. Гоповатый чуток, но не сильно.
— Есть в беседке будем?
— Ну да, как всегда. Еще же тепло.
— Укропа нарежь.
В увитой виноградом беседке они расставили нехитрую дачную посуду, и Том с жадностью набросился на еду.
— Ешь, еще добавка… — Сказала мать. Ее руки, жившие будто отдельно от тела, суетились среди тарелок с едой.
— А ты чего не садишься?
— Я?… Бери хлеб. Салату? — Она задела рукой солонку, и та покатилась по столу, оставляя за собой тропинку крупной сероватой соли.
— Мам, с тобой все в порядке? — Том оторвался от еды. — Что-то ты какая-то…
— Нет, ничего. — Мать отвела глаза, сказав это чересчур поспешно, и он сразу отодвинул от себя тарелку.
— Так. А чего руки дрожат? А-ну, выкладывай.
— Да так, глупость одна произошла. Не думаю, что оно тебе нужно. Как-то переживу, не волнуйся.
— Ну да. Спасибо, успокоила. Теперь я точно волноваться не буду. Что случилось-то?
— Пока ничего. — Мать снова замялась, сжала край скатерти, нерешительно замолчала. — В общем, тут у папки нашего новый собутыльник появился. Галушко — фамилия. Юрист какой-то, что ли. И он предложил папке меня отравить.
— Отравить?
— Марья Афанасьевна слышала. Моя старая знакомая, еще по прошлой работе. Она сейчас на пенсии, подрабатывает вахтером в общежитии, а этот хмырь там живет. Так вот. Позавчера они зашли туда вдвоем. Пьяные в дым, ничего вокруг не видят. А этот и говорит: «Ты мышьяка ей подсыпь. Его чуть-чуть нужно, на кончике ножа. У нее почки станут, и привет. Менты ничего не поймут, это я гарантирую, мышьяк на каждого по-разному действует. А если спросят, — скажешь, что не знаешь. Или что мышей травила. Ребенок у тебя уже взрослый. Свою квартиру продашь, к нему переедешь, и жизнь у тебя сразу наладится». Папку нашего она сразу узнала, а потом ко мне на работу зашла, и все рассказала.
— Ты ему говорила?
— Сказала конечно, что знаю. Что если что-то случится, то он сядет. Ключи у него от нашей квартиры забрала.
— А он — что?
— Ничего. То говорит, что ничего такого не было, то не помнит.
— Ясно. — Том, без интереса ковырял вилкой картошку. Есть уже не хотелось.
— Как думаешь, — решился бы?
— Не знаю. Может и нет. Все-таки столько лет вместе прожили. Хотя… Ты только не переживай сильно. Просто на всякий случай, — знай.
Мать старалась говорить легко, но выходило как-то излишне звонко, и от этого становилось чуточку страшно. Он почувствовал, как откуда-то из живота, обжигая кровью сердце, тяжелым горячим клубком поднимается в нем черная страшная ненависть.
— Ничего себе. — Он взял вилку, снова положил ее, стараясь говорить ровно, невозмутимо. — А где эта общага?
— Девятиэтажка у завода. Серая такая, углом стоит.
— Ты выясни у этой вахтерши, в каком номере этот урод живет, ладно? В гости хочу зайти.
— А хуже не будет?
— А что может быть хуже? — Отозвался он.
— Он же юрист… Мало ли.
— Я просто зайду, поговорю… Нет, хуже не будет, это точно. Зато если он получит, то будет думать, что отец проболтался. Тут и дружбе конец.
— Ты только папку не трогай, ладно?
— Ты сегодня домой, или здесь останешься?
— Поеду. — Сказала мама.
— Созвонись с этой вахтершей, прям сегодня.
— Хорошо. Вот, попробуй, я компот приготовила…
— …А компот! Какой тут компот! — Сосед по столику будто услышал его мысли. — Пойду, за добавкой схожу!
— Вот унесло. — Том, провожая соседа взглядом, с шумом выдохнул воздух. — Таблетки у них такие, что ли? Или мозги шалят?
***
Дни в больнице тянулись медленно, словно резиновые. Том бесцельно слонялся по длинным коридорам корпуса, бродил по больничному скверу, ища, чем себя занять. Иногда ему удавалось помочь санитарам, перекладывая на каталки прибывших на «Скорых» больных. Однажды его попросили привезти еду из кухни, и он стал возить ее каждый день. Пищеблок располагался в отдельном здании, на противоположном конце больницы. Еду в эмалированных ведрах с номерами отделений возили на тачке по низкому, напоминающему длинное бомбоубежище, подземному тоннелю, тускло освещенному пыльными лампочками, света которых хватало как раз на то, чтобы выйдя из одной тени, погрузиться в другую. Ему нравилось здесь представлять себя человеком, чудом выжившим после ядерной войны. Он везет еду таким же нескольким счастливчикам, которые ждут где-то там, за стенами со вздувшейся сырости рыхлой штукатуркой, по которой плетутся толстые, покрытые паутиной кабеля. Они, обреченные на жизнь кротов, никогда не выйдут на поверхность. Разве что в старости, чтобы напоследок насладиться солнечным светом.
Но вот тоннель заканчивался не мрачным бомбоубежищем, а лифтом, где еду поднимали на нужный этаж и развозили по отделениям. Жестяной грохот тачки оповещал весь корпус, что наступило время приема пищи.
Однажды, когда он втолкнул тачку в лифт, вместе с ним вошла симпатичная медсестра.
— Девушка, только сегодня и только для вас бесплатное такси, — бодро отчеканил Том. — Садитесь, подвезу. Машина не совсем современная, но еще вполне ничего.
Девушка отвернулась.
— Адресок чиркните, я вечером подъеду.
— Больной, идите к себе в палату, — Сказала девушка, стремясь выглядеть как можно строже и старше.
— Не могу, я при исполнении. — Том вышел из лифта, и прислушался. Лифт остановился этажом выше, в отделении терапии.
«Только на смену заступила. Зайду в гости вечерком». — Подумал он.
После обеда Том стоял в своей пустой палате у открытого окна и курил украдкой в кулак, сбивая пепел в мерный пластмассовый стаканчик.
— Здарова!
Он непроизвольно дернулся.
В распахнутой двери, широко улыбаясь, стоял в белом халате его друг Серый. В руках он держал большой пакет.
— Апельсинов, извини, нету. Зато я тебе гороха принес, прям с колхозного поля. Тем более что, как я вижу, ты тут радикально один, поэтому никому не повредишь! — Захохотал он.
— Спасибо, Серый! Как дела вообще? Чего нового?
Серый сел на кровать напротив, вздохнул.
— Дела так себе. Ваньку убили.
Том похолодел.
— Кого? — Он хотел ослышаться, хотел изо всех сил.
— Ваньку. Тремпель убил.
Том отчетливо вспомнил солнечный мартовский день. Уже совсем жарко, он стоит на остановке, распахнув куртку и щурясь от солнца. Мимо проезжают машины, неспешно трясутся автобусы. Вот на тяжелом мотоцикле с коляской, важно восседая на треугольном седле, тарахтит пожилой дед. Вдруг сзади, из-за поворота, на своей желтой «Чизете» вылетает Ванька. Прямо напротив остановки ставит ее на заднее колесо, с дымом и ревом обгоняя деда. А потом, обернувшись и весело подгазовывая, кивает тому: давай, мол, — слабо?
— …Где убили? Как?
— Таньку помнишь, его сестру? Она же замуж за Тремпеля вышла, и стала моей соседкой. А она сейчас беременная. Ну вот, Иван пришел к ним домой, вызвал Таньку из квартиры, и прямо на лестничной клетке “черным” втрескал. Она домой зашла, а Тремпель ее зрачки увидел и сразу всё понял. Выскочил с ножом на лестницу, а Ванька еще там был. Ну, он Ваньку и... Одним ударом, короче. В сердце.
Серый перевел дух, помолчал.
— Мать моя на крик вышла, смотрит: Ванька на ступеньках лежит, а над ним Тремпель орет: Танька, “Скорую” вызывай, я твоего брата убил. А сам дырку пальцем затыкает. Маленькую такую. А из нее кровь толчками хлюпает.
— Похороны были?
— Да, вчера. Я гроб нес. Я не знал, что ты в больнице, тебе позвонил, а мать сказала, что ты тут. На городском похоронили.
— Мы с тобой уже как похоронная команда, — вздохнул Том. — Столько народу закопали.
— Радикально. Давай, помянем, что ли. — Серый достал из пакета бутылку. — Тебе можно?
— За хорошего человека всегда можно. — Том извлек из тумбочки эмалированную кружку и фарфоровую чашку.
— Ну, поехали.
Выпили, закусили. Помолчали.
— Ты-то как сам?
— Да видишь, мне больше повезло. Поперся, придурок, с Монголом на Стекляшку. Как чувствовал, что так и будет. Ну, и получил свое. А главное, понимаешь, чудом оттуда вылез. И знаешь кто меня вытащил? Зима! Помнишь такого? Он за твоим домом живет, собака большая у него.
— Знаю. — Поморщился Серый. — Неприятный тип.
— Вот-вот. Этот неприятный тип спас мне жизнь. Я вот теперь думаю, что если б тогда ночью еще разок нарвался, — сразу бы за Ванькой и отправился.
— Тут главное есть чем думать! — усмехнулся Серый.
— Прикинь, я вообще ничего не соображал, — продолжал Том, — все как во сне. Смотрю, а тут Зима приснился.
— Мутный он, радикально. — Сказал Серый.
— Ага. Мы когда-то с пацанами в лесу гнездо построили, на дереве. Здоровое такое, двухэтажное, человек на пять. И вот пошли туда втроем, а с нами Зима увязался. Приходим на место, а из нашего гнезда кто-то борзо так: валите отсюда, а то щас спустимся и всех порвем. Снизу не видно, кто там и сколько их: гнездо высоко. Но это же наше гнездо! Ну мы давай себе дубины подыскивать, чтобы демонов изгонять. А Зима возьми и ляпни: “всё, поняли, уходим!” Тут из гнезда хохот. Оказывается, там наш Костыль сидел, с Лимоном. Горло зажал, чтобы голос не узнали, и хрипел. Зима потом оправдывался: со мной, говорит, собаки не было. Ну, все ржали конечно. Мол, без собаки-телохранителя тебе, Зима, никак на белом свете жить нельзя. Такая история.
— Смешно.
— Теперь он на Стекляшке тренируется. Хочет сильным стать, чтобы без собаки по улице смело ходить. А я теперь ему вроде как жизнью обязан.
— Ангел-Хранитель это. — Уверенно сказал Серый.
— Кто? Зима? — Не понял Том.
— Не. Просто спас тебя Ангел-Хранитель.
— Бабкины сказки. Я в Бога не верю, и вообще не крещеный. Откуда он у меня возьмется?
— А, ну раз некрещеный, тогда конечно. — Серый кивнул. — Тогда просто повезло. Ваньке вот не повезло, хотя он крещеный был. А тебе повезло.
— Ладно, давай помянем.
— Давай.
Выпили еще.
— Что еще нового?
— Что еще?... А, вспомнил. Тебе смеяться можно? Тогда слушай. — Серый захрустел гороховым стручком. — Я в мае внешкором в «Слобожанке» подрабатывал, и решил у них там заметку тиснуть, из «Нового Нестора». Ты помнишь, это анархисты питерские, я у Лелика когда-то этого «Нестора» целую пачку взял. Статья называлась «Методы борьбы с контролерами». Там было как уклониться от уплаты штрафа за безбилетный проезд, и всё такое. Короче, напечатали. И статья оказалась такой популярной, что тираж влет ушел.
— Ого!
— Главред так обалдел, что мне даже премию выписал, радикально. — Продолжал Серый. — Но вскоре, как говорят, пришла беда откуда не ждали. Троллейбусный парк на газету подал в суд, и на прошлой неделе они дело выиграли. Претензии были к пунктам, где призывалось ломать компостеры и печатать поддельные талоны. Там такая сумма, что и говорить страшно. Короче, влетела «Слобожанка» моя на пару тиражей.
— А ты что?
— А что я? Я хоть и внешкором был, но сразу уволился от греха подальше. — Серый вздохнул. — Эх, хорошая работа была. Вот так и пиши правду-матку. Теперь опять без работы.
— Я тоже с железки уволился. — Том покрутил в руках кружку. — У меня напарник на техстанции был, Володька. Тоже аккумуляторщик. Клевый пацан такой, веселый. Все про Ницше любил поговорить. А потом у него что-то там с женой не заладилось, и он жахнул по-пьянке стакан электролита. Еле откачали. Молодой же совсем, а теперь инвалид на всю жизнь. А я один остался, и всю работу на меня повесили. Короче, поработал я пару месяцев, и скучно стало.
— Радикально. — Вздохнул Серый. — Ты, кстати, не слышал, — сейчас многие в Германию едут, на пэ-эм-жэ.
— Не слышал.
— Если есть немецкие корни, то приходишь в посольство, и тебя сразу там оформляют. А в Германии — и работа и жилье бесплатное. Страховка, курсы языка, — все за счет государства.
— У меня нет немецких корней.
— И у меня нет. Но это не важно. Нужно просто фамилию в паспорте сменить, и сказать, что ты откуда-то из Поволжья. Кто у них там проверять будет. Мне вот фамилия Шварц нравится.
— Лучше Штирлиц.
— Не. Штирлиц — слишком радикально. Лучше уж Шелленберг.
В коридоре послышались шаги.
— Чашку прячь, — шепнул Том.
Дверь открылась, в нее заглянула медсестра.
— Молодой человек, на выход. В отделении тихий час.
Дверь закрылась. Серый еще раз посмотрел на кружку.
— Ладно, пошел я. Бутылку оставить?
— Забирай. Мне тут даже выпить не с кем, а тебе пригодится. Помянешь еще.
— Ну, бувай! — Серый попрощался, и ушел.
Ужин кончился, а Том все сидел на кровати и думал о Ваньке.
Он один такой был на районе, а может и в городе. Яркий, переполненный жизнью раздолбай, умевший развеселить людей, открытый и добрый с друзьями. И — настоящий жесткий боец в момент опасности, умеющий держать удар.
С Ванькой всегда было одновременно и страшно, и интересно. Он лез в каждую дыру, умело находя на свою и чужие задницы приключения. Однажды он приволок откуда-то обрез с патронами и кучу всяких сопутствующих приправ. А потом теплыми летними вечерами они ходили по району бандой, обвешанные как красноармейцы, крест-накрест пустыми, в обшарпанной черной краске, пулеметными лентами, и расстреливали уличные фонари. Ни Том, ни Монгол, сколько ни стреляли, — не попали ни разу. А Ванька шмалял феноменально, вырубая девять фонарей из десяти. С громким хлопком они весело разлетались в мелкую стеклянную пыль, через мгновение перегорала дымящаяся вольфрамовая спираль. Иногда они постреливали по окнам общаги и ближайшего завода. Конечно, вскоре этим заинтересовалась милиция. Ваньку никто не сдал, а сам он спрятал свой обрез на крыше одной из девятиэтажек, спустив его на веревке в вентиляционную шахту. И никому не сказал, где. Там, очевидно, он и висит до сих пор.
Ванька жил ярко, будто за троих. Если бы можно было придумать девиз всей его жизни, то это наверное был бы «В каждой мышеловке — бесплатный сыр». По природе своей неугомонный экспериментатор, он первый стал интересоваться химией. Поначалу Ванька потрошил аптечки знакомых в поисках эфедрина или опиатов, а то и просто транквилизаторов. Один за другим его друзья проникались азартом запретных плодов. «Когда родители будут дома? Давай, мы сварим у тебя «черный»! Мы быстро, у нас всё с собой. Хочешь вмазаться, — не вопрос». Задумывался Ванька лишь по одному поводу: человек, первым «проставивший» ни разу не коловшегося, берет на себя особый грех. Впрочем, это его не сильно останавливало. Его вообще никогда всерьез ничего не печалило. Его мало заботила чужая жизнь, его никогда не пугала собственная смерть. Он ушел легко, с насмешкой. И не один он. Кот, Покос, Батон, Зюзя, Диныч, — друзья Тома уходили из жизни один за одним. Каждый из них был ему близким, почти родным, но самое странное было в том, что все уже привыкли к этим смертям, подспудно ожидая в потоке тревожных новостей очередной обжигающе-близкой трагедии. Будто каждый день кто-то большой и властный крутил невидимый барабан револьвера с одним патроном: сегодня ты, завтра я. Эта странная привычка к смерти притупила боль, стала по-военному странно и страшно привычной. Сами друзья покидали этот мир, будто выходили из комнаты — легко, громко хлопая дверью. Выходили просто и весело, словно шутя, будто их душам было тесно, скучно среди серьезных людей и взрослых обязательных ритуалов. Что бы он сказал каждому, если бы знал, что тот завтра умрет? Наверное что-то очень важное. Весомое. Без шуток, смеха, без банальностей. Но что? Том не знал.
К вечеру он вышел на улицу и нарвал на клумбе у отделения букет ромашек. Поднялся в отделение терапии, и пройдя длинным темным коридором, тихо подошел к посту. Молоденькая медсестра при свете настольной лампы читала книгу.
Это была не та симпатичная девушка, которую Том видел в лифте. Но ему было скучно.
Держа букет за спиной, он вышел из темноты.
— Сестра, мне плохо.
Девушка оторвала глаза от книги.
— Что случилось?
— У меня болит сердце. — Том театрально схватился за грудь.
— Из какой вы палаты?
— Из самой печальной, Оля. — Он успел прочитать на халате ее имя.
— Вы не из нашего отделения. — Ее глаза привыкли к сумеркам, — Идите к себе.
— У нас мне никто не может помочь. Никто не может вылечить мое сердце, ведь его боль проходит только при виде красивой девушки.
— Молодой человек, хватит кривляться! Идите к себе на этаж. — Повторила она уже менее настойчиво и даже немного жалобно. — Иначе я позову завотделением.
— Завотделением уже дома, спит. — Широким жестом Том достал из-за спины ромашки и положил их на стол, будто побивая козырным тузом все мелкие карты ненужных слов.
— Ой, ну зачем? — Едва скрывая улыбку, Оля как-то устало и обреченно вздохнула.
— Дай мне какую-то банку, я воды наберу. — Чувствуя, что цветы произвели впечатление, он небрежно перешел на ты.
— Ну ладно. В виде исключения, — деловито сказала девушка, и принесла из манипуляционной высокую стеклянную колбу. — Что-то хотели? — Она говорила на “Вы”.
— Я так, поболтать просто. На этаже одни бабушки, а я в палате вообще один остался. Хоть вой.
— Ну ладно. — Потеплела медсестра. — Только недолго.
Я работаю в журнале «Фома». Мой роман посвящен контр-культуре 90-х и основан на реальных событиях, происходивших в то время. Он вырос из личных заметок в моем блоге, на которые я получил живой и сильный отклик читателей. Здесь нет надуманной чернухи и картонных героев, зато есть настоящие, живые люди, полные надежд. Роман публикуется бесплатно, с сокращениями. У меня есть мечта издать его полную версию на бумаге.