Моя читательская встреча со стихами и прозой Яна Гольцмана (1936–1999) оказалась всё-таки, думаю, запоздалой. Но она — произошла, и я счастлив тому. А ведь могло случиться и личное знакомство, — приди я в «Новый мир» года на три пораньше…

Прозаик Михаил Бутов написал о Гольцмане в блоге на сайте Фонда журнала: «Он был другом нашей редакции и человеком, любимым буквально всеми... У него был дом в глухой, безлюдной уже деревне в Карелии, в Пудожском районе, и в конце концов Ян просто стал уезжать туда с весны до осени и жил тем, что удавалось добыть в лесу, охотой, рыбалкой. Именно жил — это не было отдыхом, экотуризмом, не было и правильным поставленным промыслом — одинокая ружейная охота, простая рыбалка — но от них зависела жизнь. Все это особым образом питало его прозу — короткую, очень открытую, прямую, обманчиво наивную — и поразительно точную и мудрую. Это проза глубокого погружения, ее просто за столом не выдумать…»
«Строфы» — совместный проект журнала «Фома» и «Новый мир» о творчестве поэтов XX-XXI веков. Автор проекта: Павел Крючков.
То же — и поэзия Яна Яновича. И — даже — посвящения ему и его памяти, собравшиеся у меня на столе стараниями поэта Валерия Лобанова (благодаря ему я всё перечитываю книжку «Кочевье» с дарственной надписью Яна из одного только слова: «Здравствуй!»).
«…Крепко сидят журавлиные клинья / В памяти. Всё сначала — / Пятнышко света на горькой калине, / Чёрные доски причала». Это писатель Гарри Гордон — ему, Яну, собрату.
О чуде Божьего мира писать трудно, — ведь надо уметь быть его подлинной частью, надо видеть и слышать. Ян Гольцман — умел и был благодарным. «Ходили… к часовне, прощались с опустевшим лесом, с озером, которое стало теперь просторней, и строже, и глубже». Эта дневниковая запись Яна Яновича — в московской приходской газете, рядом с поминальной публикацией его стихов, три из которых — и в нашей подборке
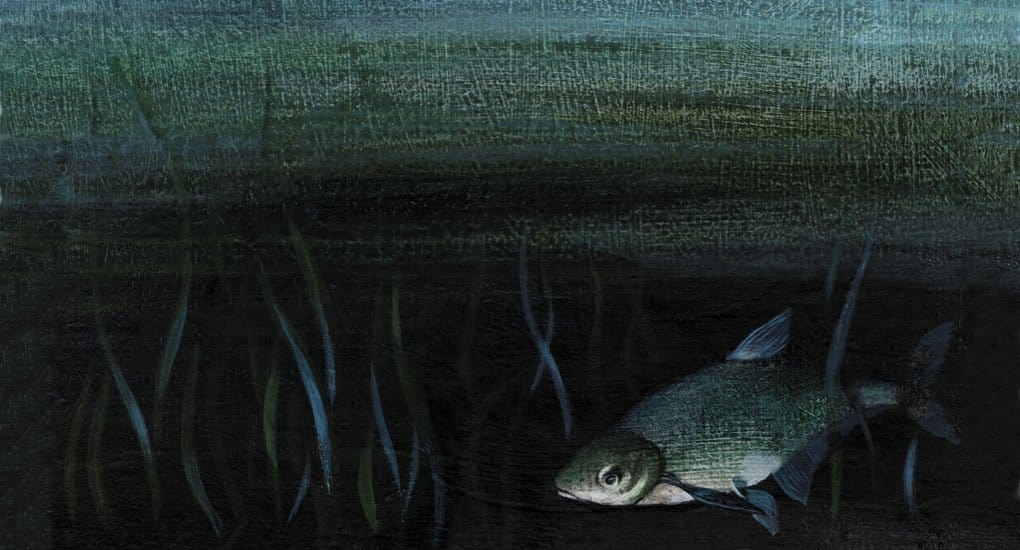
* * *
Спой мне, иволга, песню пустынную…
Н. Заболоцкий
Пустынные песни. Поются они неспроста.
Пора поклониться простору поклоном земным:
Пустынные воды, пустынные эти места —
Они не позволят родиться напевам иным.
Конечно, природа — не мануфактура, а храм,
Лечебница духа, всеобщий родительский дом.
Пора поклониться распахнутым настежь борам,
Струе родниковой за то, что идет подо льдом.
Разлюбит подруга, считавшийся другом — предаст,
Но вовремя в зелень оденутся пряди ветлы,
Все так же нетронут январский сияющий наст,
И белые ночи все так же печально-светлы.
Никто перепелкой свистать не принудит дрозда.
Какой живописец напишет октябрьскую медь?
Пустынные песни, поются они неспроста:
Ни ветер, ни ворон не станут бессмысленно петь.
Белая ночь
Стало озеро голубым,
Всплески пошли кругами:
Лещ поднимается из глубин,
Трогает звёзды губами.
Плещется лещ, не боится щук,
И до зари туманной
Кажутся звёзды ему, лещу —
Белой небесной манной.
* * *
Припекает — только озеро не тает.
Враз темнеет, да никак не рассветает.
Все не в жилу, все-то нам не по нутру.
Полукровки, полудурки, перестарки,
Мы не светим, а мигаем что огарки,
Что оглодыши свечные на ветру.
Как просторно-незапятнанна бумага!
Нарастают отрешённость и отвага:
Что терять, когда потерям счету нет?
Может, только порешив, что песня спета,
Напоследок излучаешь столько света,
Что кому-то и взаправду виден свет.
* * *
Месяц — прямо за кормой.
Сумерки. Плыву домой.
Недалёкий путь.
Облетевшие леса.
Отлетают голоса.
И не повернуть...
Поутих былой задор.
Что за прихоть — всякий вздор
Рифмовать, молоть?
Для печали нет причин.
Может, лучше помолчим
До кончины вплоть?
Разве что стишок в альбом...
Лунный свет стоит столбом,
Тянется за мной.
Как просторно. Боже мой!
Я теперь плыву домой
По воде земной.
* * *
Неслышно подошёл Покров.
Печальней стало и родней.
Берёзовая паль — на дне,
Осиновая паль — на дне.
Видней рябиновая кровь.
Не наросло рябины. Дрозд
Не знает, чем себя кормить.
Зато листва — густой кармин:
Всё дерево — большая гроздь!
Вода озёрная чиста.
Слетел в глубины лист резной.
Куда он денется весной?
На дне — ни одного листа.
Последние летят с ветвей,
Подрагивая на ветру.
А как же будет поутру?
Ещё пустынней. И светлей...
* * *
Вот азбука — начало всех начал.
Открыл букварь, и — детством так и дунуло!
А Константин Философ по ночам
Не спал, наверно, буковки выдумывал.
Шептал. Перо в чернила окунал.
Он понимал, что буковки — основа
Грядущего неписаного слова,
Великого, как Тихий океан.
* * *
Да разве я о смерти говорю?
О жизни, что похожа на зарю,
Поскольку хороша и мимолетна.
Об этом все поэмы и полотна.
Сначала — утро, яркая денница,
Потом — закат, вечерняя заря,
А после прожитое долго снится,
Тысячелетья тлея и горя...
Про смерть — в разгаре жизни говорится.
Когда же впрямь дыханьем ледяным
Повеет на тебя неотвратимо,
Захочется взглянуть поверх и мимо,
Чтоб слабый разум укрепить иным.
Припомнить осень давнюю, рассвет
И тишину, какой в помине нет,
Картавый стон тетеревиных веток.
Какая свежесть, музыка и страсть!
...Когда в сырую землю станут класть,
Ты будешь улыбаться напоследок.









