В восьмидесятые годы прошлого века вечернее отделение факультета журналистики МГУ на Моховой оказалось для меня испытанием и приключением. После школы я решил повременить с продолжением учёбы (тем более, что наша семья жила очень трудно), и устроился на завод, где приобрёл профессию слесаря-сборщика.
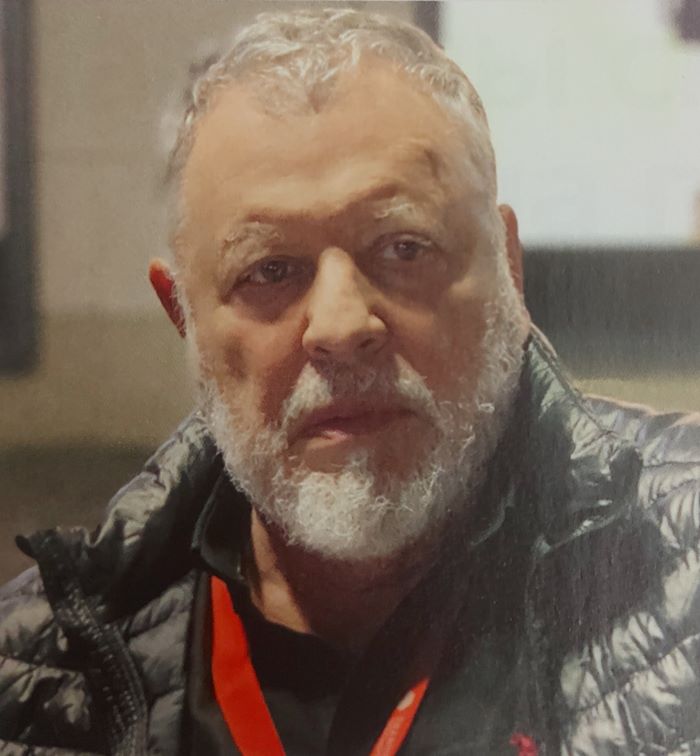
И со временем стал зарабатывать больше своих родителей, выпускников биофака. Но учиться всё-таки хотелось, да и ремесло журналиста казалось весьма заманчивым.
Словом, на пятом году заводской жизни я подал документы на Моховую. Очень быстро журфак стал для меня вторым домом. Вечерним — домом.
Преподаватели там были — один легендарнее другого. Они казались нам людьми из какого-то иного, нездешнего мира. Античность вела хрупкая Елизавета Петровна Кучборская, словно бы пришедшая в аудитории прямо из Золотого века. Русскую литературу давал Эдуард Григорьевич Бабаев, младший друг Анны Ахматовой…
Моложавый и спортивный Игорь Волгин читал о Федоре Достоевском.
Он совсем не походил на героев писателя, которого так изящно открывал нам и в которого — через Волгина же — мы страшно влюблялись.
Конспекты волгинских лекций я храню до сих пор.
И сегодня он продолжает по-прежнему учить студентов и пишет новые книги. А ещё вы хорошо знаете Волгина по интеллектуальной телепрограмме «Игра в бисер».
«Строфы» — совместный проект журнала «Фома» и «Новый мир» о творчестве поэтов XX-XXI веков. Автор проекта: Павел Крючков.
О том, что — помимо всех своих трудов — Игорь Леонидович всю жизнь сочиняет стихи, я в студенческие годы не ведал. Знал только, что с древних времен он ведёт литературную студию «Луч», откуда вышло много известных современных поэтов…
Моя — и не только моя — счастливая встреча с поэзией Игоря Волгина состоялась в десятые годы века нынешнего. К нашему читателю пришёл замечательный лирик — из тех, которые, несмотря на все повороты жизни, — не устают благодарить.
«Большое должно быть сердце, — писал о Волгине Евгений Евтушенко, — чтобы всё это вместить и продолжать выстукивать по своей самой нежной морзянке, что никто не забыт и ничто не забыто. А это так и есть, пока есть такие поэты…»
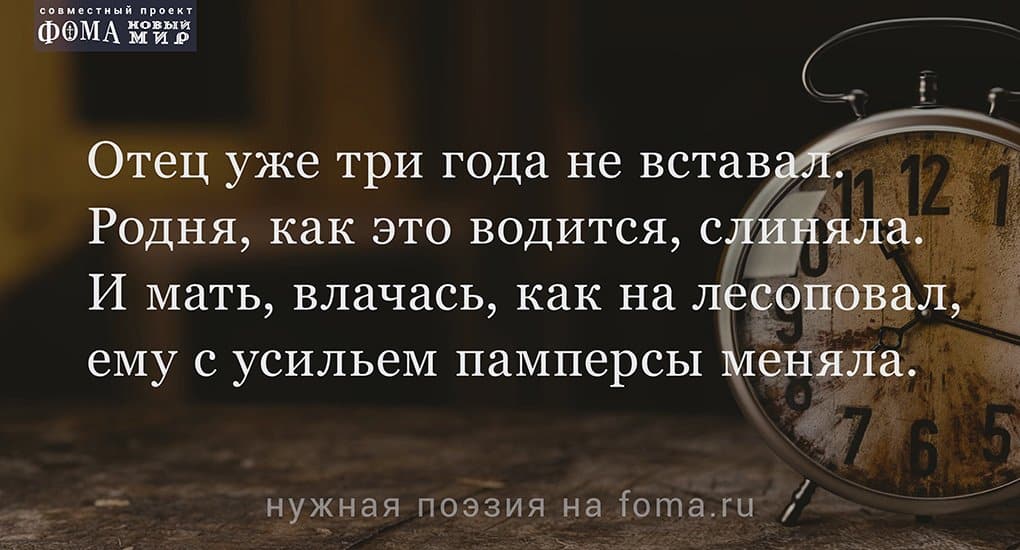
***
За околицей, возле оврага
на исходе июльского дня
обступили мальчишки конягу —
пожилого гнедого коня.
Он вздыхал тяжело и смиренно,
обречённый судьбой на убой,
и клочки прошлогоднего сена
брал с ладоней шершавой губой.
…Я припомнил, как, многое знача,
на Арбате, где нет лошадей,
магазинная старая кляча
восхищала окрестных детей.
Неказистая, тощая, в мыле,
с лошадиной своею тоской.
Мы её, как умели, кормили
невесёлой травой городской.
…А теперь вот — совсем неретиво
далеко-далеко от Москвы
ты стоишь, как какое-то диво,
и тебе не сносить головы!
Вывозивший не раз государство,
отступающий тихо во мглу,
представитель животного царства,
что ни к городу и ни к селу…
***
Но пробужденье добрых чувств
не безнадёжное искусство.
Отчаюсь. Мучаюсь. Учусь.
И всё же — пробуждаю чувства.
Как у огня, в иные дни
у этих чувств живу и греюсь.
Не знаю — добрые ль они.
Отчаюсь. Мучаюсь. Надеюсь.
***
Отплакала, отпела, отлюбила,
отголосила, мёртвых отждала.
И жизнь прошла: что было — позабыла,
как будто бы и вовсе не была.
Разбит очаг, муж не пришёл из плена,
в могиле дети — кровь её и плоть.
— Как, мать, жила?
— Жила? Обыкновенно.
Не без греха, да милостив Господь…
***
Я хоронил товарищей моих —
под звон цикад, под траурные марши.
Сначала, как ведётся, тех из них,
кто был тогда меня намного старше.
Затем настал ровесников черёд.
И, придушив бессмысленные слёзы,
у райских врат, у адовых ворот
я покупал кладбищенские розы.
Но не дай Бог, когда в конце пути,
как будто не исполнившему долга
тебе уж те, кому до тридцати,
с усмешкой жить приказывают долго.
***
Отец уже три года не вставал.
Родня, как это водится, слиняла.
И мать, влачась, как на лесоповал,
ему с усильем памперсы меняла.
Им было девяносто. Три войны.
Бог миловал отсиживать на нарах.
Путёвка в Крым. Агония страны.
Бред перестройки. Дача в Катуарах.
И мать пряла так долго эту нить
лишь для того, чтоб не сказаться стервой —
чтобы самой отца похоронить.
Но вышло так — её призвали первой.
И, уходя в тот несказанный край,
где нет ни льгот, ни времени, ни правил,
она шепнула: «Лёня, догоняй!» —
и ждать себя отец мой не заставил.
Они ушли в две тысячи втором.
А я живу. И ничего такого.
И мир не рухнул. И не грянул гром —
лишь Сколковом назвали Востряково.
***
Эти поздние стихи
не исправят положенья.
Всё же — сделай одолженье,
их на случай сбереги.
И беда не велика,
если случай не случится,
и бумага истончится,
и — забудется рука.
Не выбрасывай их вон,
а запрячь без огорчений
меж квитанций, извещений
и счетов за телефон.
В этом дружеском кругу
нет ни лести, ни подвоха —
ибо здесь верна эпоха
своему черновику.
…Мы писали, как могли,
наспех, не перебеляли,
думали, что потеряли,
а выходит — обрели.
Тёмен смысл, и беден слог,
и в грамматике небрежность.
И осталась только нежность —
безымянно, между строк.









