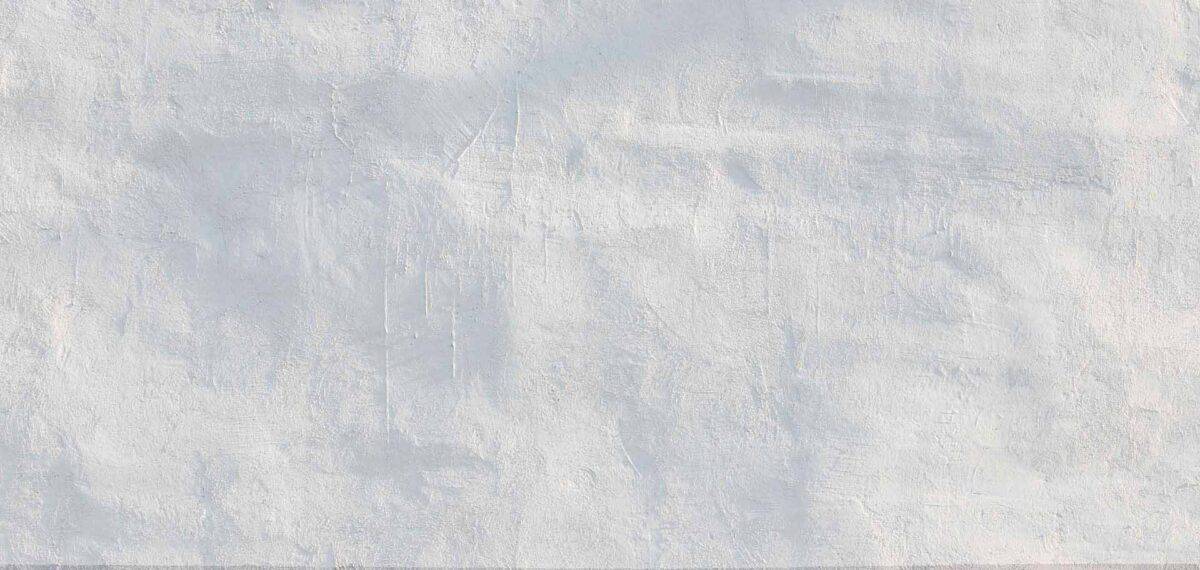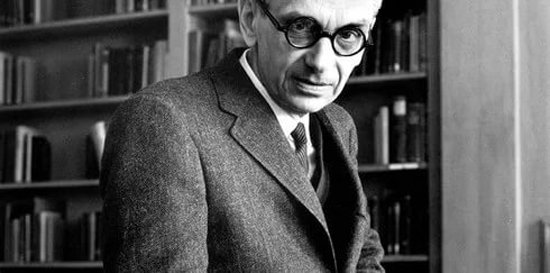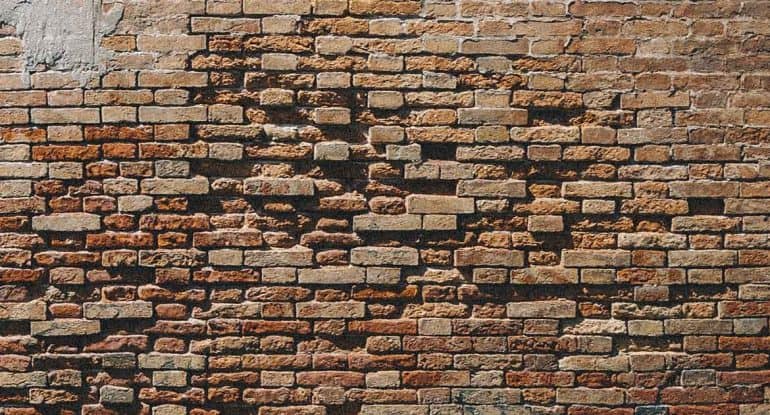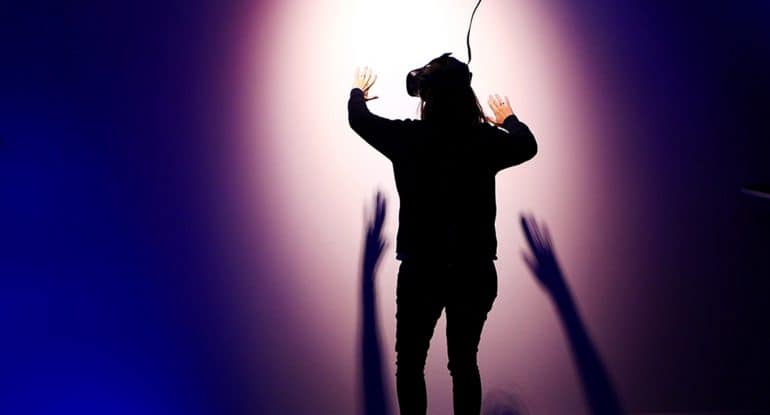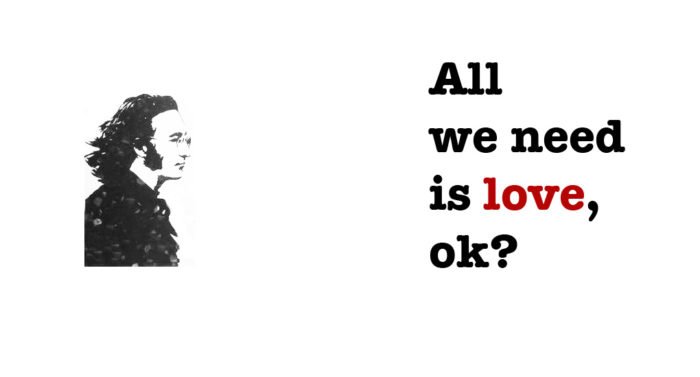В прошлой колонке я говорил о толерантности — что это вообще за идея, откуда взялась и во что в итоге превратилась. Но, как верно заметили комментаторы, была в моих рассуждениях некая недосказанность. Хорошо, пусть так, пусть автор показал нам звериный оскал толерантности в современном ее изводе — а нам-то, христианам, как к этому относиться? Нам что, нужно воевать с толерантностью? Брать пример с обезумивших «активистов», которые уже и до погромов докатились? Или как? Может, возможна какая-то другая форма толерантности, на христианской основе?
Но прежде, чем перейти к сути, сделаю важную поправку, которую, по-хорошему, нужно было дать еще в той колонке. Когда мы говорим о толерантности — мы в основном говорим о вещах вне правовой сферы. Толерантность — это не когда люди соблюдают законы, запрещающие устраивать еврейские погромы или вешать негров. Тут все просто и понятно: закон защищает права человека и общественный порядок, конкретные запреты и санкции могут варьироваться в зависимости от времени и места, но смысл этих норм остается единым. А тема толерантности возникает там, где о нарушении закона не идет и речи. То есть не в пространстве уголовно наказуемых деяний, а в пространстве вроде бы свободных мнений.
Так вот, идея толерантности в том и состоит, что мы должны ограничивать себя в словах и даже в мыслях не потому, что этого требует от нас закон, а потому, что этого требуют от нас некие высшие соображения. Общечеловеческие ценности, идеалы демократии, либерализма, глобализация, мировая экономика, и так далее. Да, есть случаи, когда толерантность внедряется посредством полиции, но гораздо чаще она внедряется посредством пропаганды.
А один из главных ее пропагандистских приемов — объявить нетолерантных людей нарушителями закона: реальными или потенциальными. Сегодня ты высказался против миграции из Средней Азии — значит, завтра ты с высокой вероятностью возьмешь лом и пойдешь громить дворников-таджиков. Сегодня ты высказался против гей-парада — значит, ты потенциальный убийца содомитов, а следовательно, по тебе не мешало бы нанести превентивный удар — во благо общества, разумеется. То есть что получается: идея толерантности на неком этапе своего развития сталкивается с различием между писанным правом и реальной жизнью — и хочет нивелировать это различие, отредактировав право так, чтобы оно охватывало вообще все стороны жизни, вплоть до мысли. В обществе доведенной до абсурда толерантности не может быть никакой свободы слова, никаких споров. Все должны ходить, опустив глаза книзу, и бояться тюрьмы. То есть — классическая модель тоталитаризма с понятием «мыслепреступления», всеобщей слежки за всеми и всеобщим страхом. Этакая «тоталерантность».
Но довольно об ужасах, перейдем к сути вопроса. А именно — к христианской оценке идеи толерантности.
Начну с того, что христианское мировоззрение всегда четко проводило разницу между грехом и грешником. Никакой терпимости к греху как к таковому быть не может. Грех надо всячески обличать. А вот к человеку, совершающему грех, отношение иное — его нужно любить, его нужно прощать. «Осуди грех — и прости грешника» — вот основа основ христианства. Любой всерьез верующий христианин хочет, чтобы все спаслись. Спаслись — значит, избавились от власти греха. Поэтому если видит, что его ближний грешит — он должен обличить его грех, чтобы грешащий ближний хотя бы задумался. Здесь стопроцентная аналогия с медициной: если мы видим, что человек серьезно болен, но и не думает обращаться к врачам, мы буквально плешь ему проедаем: что ты делаешь! Все это серьезно! Ты понимаешь, чем это кончится? Твоя жизнь в опасности! Немедленно в больницу! И даже если в этом случае мы несколько сгущаем краски, это допустимо, поскольку продиктовано заботой о человеке.
Вот то же касается и отношения к греху. Грех — ни что иное, как духовная болезнь, и последствия этой болезни могут оказаться куда печальнее, чем у болезни физической. Поэтому христианин к чужому греху толерантным быть не может. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» — говорит апостол Павел (Еф. 5:11). Причем такое обличение может быть и весьма резким — «а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью» (Иуда, 1:23).
При таком отношении к «бесплодным делам тьмы» современные христиане, разумеется, входят в конфликт с «духом века сего», в частности, с общепринятым пониманием толерантности. Этот конфликт может кончиться неприятностями — как, например, у шведского пастора Ааке Грина, отсидевшего месяц в тюрьме за обличение гомосексуализма в своих проповедях. Но тут уж каждый решает, что ему дороже — спокойная жизнь или верность Христу. Вспомним эпизод из Деяний Апостольских: «...не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека. Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:28-29).
Это — что касается отношения к греху. Но другое дело — отношение к согрешающему. Да, его грех нужно обличать, но нельзя ненавидеть грешника. Он брат твой, ты в идеале должен любить его, и если не любишь — то исключительно по причине своей собственной греховности, а вот Бог любит его так же, как и тебя. Сколь бы ни был тяжел его грех, сколь бы ни был он тебе отвратителен — а ведь пока этот человек жив, у него есть шанс покаяться, избавиться от власти греха. Воспользуется ли он этим шансом, зависит, конечно, от его свободной воли. Но не только — это еще зависит и от тебя. Ведь его решение будет проистекать в том числе и из того, как он воспринимает тебя и твои обличения. Если он видит твое презрение, твое отвращение, твою ненависть, то, скорее всего, отождествит их не с твоими личными особенностями, а с твоей верой. Чтобы покаяться в своем грехе, ему сперва нужно ощутить любовь Божию и христианскую любовь тех, кто обличает его грех. Но когда «христианская любовь» проявляется в форме избиений, оскорблений, идиотского шутовства — у грешника возникает подозрение, что это все-таки не любовь, а нечто иное. И он оказывается прав. Слишком часто под видом «спасения грешников» люди просто выплескивают свою агрессию и дают волю своим темным инстинктам.
Практические выводы (во всяком случае, для себя) я вижу такие:
Во-первых, «не лезть поперек батьки». Церковь как единое целое соборно высказывает отношение к тем явлениям жизни, которые несовместимы с верой во Христа. Мнение Церкви надо знать и при необходимости воспроизвести. Но самочинно тратить свои силы и время на обличение грешников, тем более, не являющихся твоими ближними, не надо. Можешь наломать дров. Не надо вообще высказываться на эти темы, пока ты лично не оказался в ситуации выбора. «Не обнажай меча в тавернах».
Во-вторых, если уж тебе приходится обличать «бесплодные дела тьмы» — делай это компетентно, не тиражируй стереотипы. Изучи сперва вопрос. И помни, что твоя цель — не победить в споре, а четко изложить людям позицию Церкви и заставить задуматься. Больше этого ты сделать все равно ничего не сможешь.
В-третьих, думай о форме своих обличений, если уж приходится обличать. Если ты говоришь с людьми свысока, если демонстрируешь им свое отвращение — они просто не станут тебя слушать и лишь укрепятся в своих предубеждениях.
...Да, нам не по пути с толерантностью, понимаемой как равнодушие, как равноудаленность от любой правды, как оправдание греха. Но та мотивация толерантности, что проистекает из неприятия обид, оскорблений, унижений, нам близка. Ведь утверждать свою правду можно и без издевательств. Разве нет?