Когда восемь лет тому назад наши «Строфы» еще только начинались, я никак не мог предположить, что рубрика продержится так долго. В голове, помню, сразу же сложился небольшой список поэтических имен, «без которых нельзя», тех, кто должен непременно в этой рубрике появиться, пока она просуществует.

Слава Богу, «Строфы» — всё живут, но эти имена я помню и сейчас.
Среди самых первых, «жизненно важных», как говорил один поэт о другом, — была и жительница Саратова — Светлана Кекова. Её подборка, названная по строке одного из особо любимых мною стихотворений — «Истоки и последствия любви», — вышла в августовском номере «Фомы», в 2005-м. Представляя избранные стихи поэта, я поделился, в частности, своей укрепляющейся мыслью, что они «всегда будут пронизаны молитвенным настроением и удивлением перед богатствами видимого и невидимого мира». Но понимал ли тогда, насколько изголодался по такому выражению поэтического дара, по такому поэту — наш немногочисленный, воспитанный хорошим вкусом, читатель?
С тех пор к этому читателю пришло полтора десятка стихотворных публикаций в журналах и не менее пяти книг. Родились новые слова и смыслы, появились свежие образы и сюжеты. К личности автора — мерцающего за стихами — добавились новые краски и биографические штрихи. Да и в обыденной жизни произошли радостные события: Создатель подарил новых внуков, Светлана Васильевна стала доктором филологических наук, впервые после детских лет побывала на родной сахалинской земле.
«Строфы» — совместный проект журнала «Фома» и «Новый мир» о творчестве поэтов XX-XXI веков. Автор проекта: Павел Крючков.
Недавно, на вручении Светлане Кековой новомирской премии «Anthologia» за книгу «Сто стихотворений», главный редактор издательства рассказал, что менее чем за год с момента публикации к нему пришло немало читательских просьб о допечатке тиража именно этого сборника — из всей книжной серии.
И прочитал то самое стихотворение с упомянутой выше строчкой.
…А таинственная и одновременно открытая Богу и миру поэтическая миссия Светланы Кековой, её удивительное послание — всё в пути: от души к душе, от сердца к сердцу.
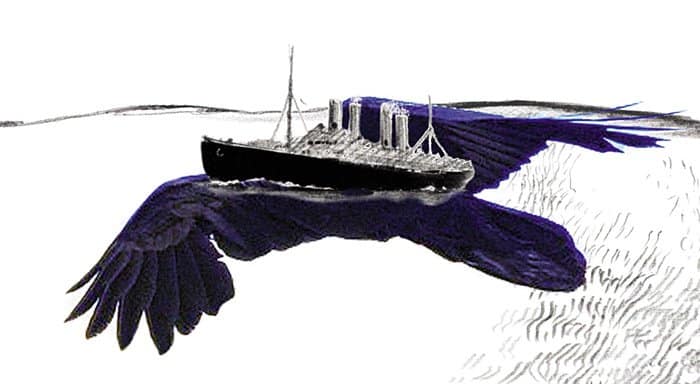
* * *
Я была солдатом лихой войны,
и сражались мы не на жизнь — на смерть.
Где хозяин звёзд и морской волны?
Кто даёт устав и колеблет твердь?
Я вставала в строй, и при счёте «раз»
я в пустыне делала марш-бросок.
Кто отнимет мрак от закрытых глаз?
Кто зароет злато в морской песок?
Я была водой — тем, кто хочет пить.
Я была травой — тем, кто хочет спать.
Кто меня в иголку вставлял, как нить?
Кто меня заставил землёю стать?
По земле пустыни ползёт змея,
а в пустыне неба горит алмаз.
Ты ответь мне, Ангел и Судия,
кто отнимет мрак от закрытых глаз?
* * *
Расскажи мне о жизни в пустыне,
о тоске, о великом огне,
о любви, об отце и о сыне,
расскажи о бессмертии мне,
о грехе, милосердии, страхе,
о предательстве мне расскажи,
о победе, о жизненном крахе,
о молчанье, о правде, о лжи,
о страдании, смехе и плаче,
о враче — или нет — палаче
расскажи — Ты не можешь иначе:
плачет мир у Тебя на плече.
* * *
Мы плывём на бессмертном «Титанике»,
и в каютах — комфорт и уют.
Нам слова, как печатные пряники,
на десерт иногда подают.
Гребни волн застывают вопросами —
где вы — Ной, Моисей, Авраам?
И скользят, как лакеи с подносами,
тени дам по роскошным коврам.
Капитан в отутюженном кителе
задремал и присел на диван —
и уже господа сочинители
смотрят с палуб, как спит океан.
А небесное наше отечество
говорит безутешной земле:
«Осторожно — плывёт человечество,
на огромном плывёт корабле!»
* * *
Не знаю я, какими сводками
уже заполнено пространство…
Сквозит нездешний свет над сопками,
смиряя ветра вольтерьянство.
И вдохновению грошовому
я путь открою без утайки —
к хребту отправлюсь Камышовому
на крыльях ошалевшей чайки.
Войдя во время, Богом данное,
я каждой клеткой тела вспомню
простую церковь деревянную,
тюрьму, кирпичную часовню,
«Маяк» и улицу Советскую,
послевоенный запах водки.
И всю мою блаженно-детскую
жизнь в Александровской Слободке.
Сейчас сосна стоит апостолом
напротив городского сквера,
клубятся облака над островом,
летят над бухтой Жонкиера.
Но мне спросить о детстве некого,
и я без боли и без страха
иду туда, где помнят Чехова
Три кровных Брата, три монаха…
* * *
Увянуть могли бы две розы в руке —
да льдистые глыбы плывут по реке.
На них я читаю судьбы письмена:
блестит запятая, как чья-то вина,
дрожит многоточья рассыпанный мак,
о чем-то кричит восклицательный знак.
Но, знаки иные в груди затая,
не знаю вины я страшней, чем моя.
Последней из пленниц я шла под венец,
и плакал младенец, звенел бубенец,
а нож деревянный лежал на столе,
как меч-кладенец в каменистой земле.
Кто сможет лихого врага побороть —
рассечь и рассеять словесную плоть
и свадебной ночью на теле стиха
слова уничтожить, как язвы греха?
* * *
Нам шьёт зима одежды брачные,
сквозные, белые, непрочные...
Снег завалил дома невзрачные —
кирпичные и крупноблочные.
А улицы гремят трамваями,
гудят машинами заморскими,
и голуби гуляют стаями
с замашками консерваторскими.
Пространство сыто снежным творогом,
а время — сахарною пудрою.
Но чёрный ворон смотрит ворогом,
ища себе подругу мудрую.
Он ей сошьёт фату из инея,
из снега — платье подвенечное
и улетит с ней в небо синее,
в пространство канет бесконечное!









