Всё вспоминаю, когда же я впервые услышал поэтическое слово этого человека — с твёрдым княжеским именем и такой нежной фамилией, за которой одновременно слышится кропотливое «сбережение» и «бережок» из лихой русской песни… Когда же?

И припомнилось. Это были школьные годы, когда в пионерлагере вожатый однажды запел бережковскую «Веру», посвящённую памяти легендарной песенницы семидесятых Веры Матвеевой. С её, матвеевским, словом-припевом, который запомнился сразу же, от которого и сейчас комок в горле: «Любите меня, / Пока я жива, / Пока не остались / Только голос и слова…»
Сейчас — переслушал, и главное пришло из финала:
…Да будет вам в подарок много дней,
Как сверх отпущенного Богом…
Дым над холмами ближе и ясней,
А ветер всё сильней и холодней,
И птиц над нами так немного…
Хорошо сказал литератор Никита Елисеев: «В пору девальвации литературного слова барды — последние, кто держит бастион изысканной и грубой, настоящей русской речи…»
Это вроде бы про вчера, а кажется, и про сегодня.
И очень точно назвал Бережкова «трагиком с гитарой».
На заре «перестройки» Владимир вошел в «Первый круг», то бишь — в легендарное бардовское сообщество (позапрошлым летом в наших «Строфах» гостило драгоценное поэтическое слово Надежды Сосновской).
«Строфы» — совместный проект журнала «Фома» и «Новый мир» о творчестве поэтов XX-XXI веков. Автор проекта: Павел Крючков.
А до того — моё поколение тогда только народилось — были Новосибирский фестиваль авторской песни и благословение Александра Галича. А ещё перед тем — первое поэтическое объединение СМОГ с феерическим Леонидом Губановым…
Поводов для печалей было потом много.
Печаль Владимира Бережкова — всегда светла и драматически благородна.
В предисловии к большой книге его стихов и песен «Мы встретились в Раю» друг наших «Строф» поэт Андрей Анпилов говорил о долгом дыхании этой поэзии, о её «тайном сиянии» и о самом барде: «…Поэт смиренно принял свою участь и тем преодолел судьбу». И ещё: «Красота сострадания, чистосердечия и бескорыстной любви проста и естественна».
Как всё реликтовое, особенно — в наши окаянные дни, добавим вполголоса.
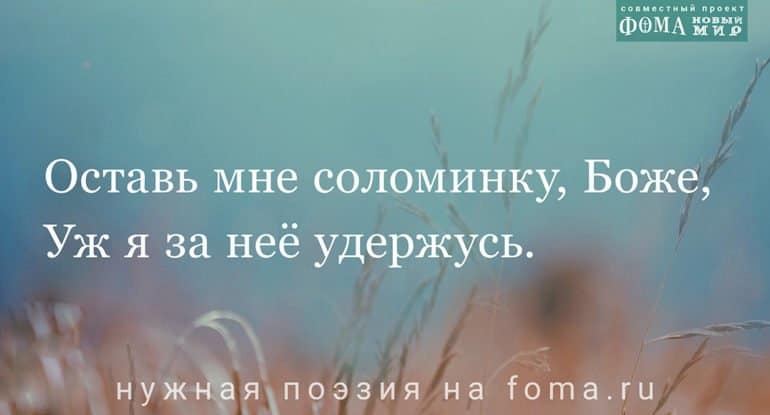
***
Герой арены ломает стены,
Стилист искусно плетет роман.
Чей голос слышится нам со сцены,
И кто диктует в тетрадь обман?
Ему — хватает вчерашней пены,
Она — внимает четвертым снам.
Но очень редко Ангел Белый,
А не лукавый слетает к нам.
Сгущает тьма промежуток букв,
Скрывает ритм удар хвоста.
Счастливый автор колотит в бубен,
Перо цепляет узор листа.
Он одержим вдохновеньем тела —
Уже нет дела, чей выдох там…
Ведь очень редко Ангел Белый,
А не лукавый слетает к нам.
2000-е
Городок провинциальный
Мне снится городок провинциальный…
И эта глушь — столица здешних мест —
С заводом жёлтым, с заводью печальной
Несет обычность жизни — тихий крест.
Колхозника или провинциала
Автобус к ночи подвезет на круг,
Где под скамейкой у автовокзала
Всё семечки, всё семечки, мой друг.
А этот город был когда-то первым —
Его за гордость летопись бранит, —
Но растащить кирпичики успели
Соперники, одетые в гранит.
Он мог бы расцвести, себе построив
На берегу огромный циклотрон.
И, всё вокруг сгноив, держать достойно
Себя, как будто съездил за кордон.
И вот стоит он, как стоит, — и это
Его судьба до окончанья лет.
И я согласен — песенка допета,
Ну, может, и остался где куплет.
И ночью я который раз теряюсь
В его заводе, в желтых корпусах,
Но, выбравшись, гляжу и удивляюсь
И заводи, и церковке в лесах.
1982
Саврасов. Грачи прилетели
Прилетели грачи, но печальна земля,
и у церкви кричит в небо вся их семья.
Здесь размытая ширь непроезжих полей,
ослабевшая жизнь почерневших ветвей,
и в затертом пальто я стою на снегу —
это лучшее, что я увидеть смогу.
Взгляд пристрастен и плох век подходит к концу,
пусть другим судит Бог подобрать ей к лицу
не грачей на полях, а могущества взлет,
а такие, как я, не украсят её,
а такие, как я, не продлят её дни,
не отцы, не мужья, слава Богу, одни.
Остается без слов ослабевший мотив;
даже то ремесло, для которого жив,
и докучливый друг имя треплет моё,
да берет на испуг по ночам забытьё,
и наследства изъян ждет в стекле на столе,
и такие, как я, не нужны на земле.
Прилетели грачи, но печальна земля,
и у церкви кричит в небо вся их семья.
Здесь размытая ширь непроезжих полей,
ослабевшая жизнь почерневших ветвей,
и в затертом пальто я стою на снегу —
это лучшее, что я увидеть смогу.
1984
***
Подождите меня, отец и мать.
Я вас скоро смогу догнать.
Далеко не бегите за сень небес —
Я уже захожу в наш лес.
Листья осени ярки, как испокон
Свет пречистых лесных икон.
Наклонюсь за листом — он мне век знаком.
Вы ведь примете мой поклон.
Подождите меня, отец и мать.
Что же не подождать?
Ведь до горечи той, что я вам принёс,
Я ещё не совсем дорос.
Вот когда получу на земле сполна,
Той, что вам на двоих дана,
Мы как равные выйдем в знакомый лес,
Ну, а там — до семи небес.
1996
***
Нет проще ничего, нет ничего обычней,
Начало всех начал — звучит он по земле —
Крик боли — этот воздух — сжатый и привычный,
И без него нам, как без соли на столе.
Он человеку дан с его дыханьем Богом,
А всё, что не болит — мертво, чем не зови,
Но как бы жили мы на выдохе без вдоха? —
И нам оставлена соломинка любви.
А что нам нужней, что дороже?
Глоток — я никак не отдышусь…
Оставь мне соломинку, Боже,
Уж я за неё удержусь.
И что нам в дебри лезть и спрашивать ответа —
Прислушайся, гляди — ответ на всех один,
Ведь в каждом что-то есть от солнечного света,
И каждый ищет сам, как этот свет найти.
Я руку протяну — тебе — ну что ж, бывает!
Всё будет хорошо… я, как и все — дышу.
А если что болит — то, значит, заживает…
Соломинка струной — я её держу.
Что дальше судьба нам предложит
Глоток — я никак не отдышусь!
Оставь мне соломинку, Боже,
Уж я за неё удержусь.
1982









