9 мая этого года Булату Окуджаве исполнилось бы 98 лет. А 12 июня будет уже четверть века, как его нет с нами. В советское время он был кумиром миллионов, сейчас его помнят не столь уж многие. Да и среди тех, кто помнит, отношение к нему неоднозначное — его шестидесятничество, его либеральные убеждения не всем по вкусу. Среди верующих людей им тоже как-то не принято восторгаться, ведь называл себя атеистом, явных симпатий к Церкви не изъявлял, а крестился лишь на смертном одре. Казалось бы, ну что может сказать он духовного воцерковленному христианину? На самом деле — может. Поговорим о не самом известном его стихотворении «Несчастье».
Стихотворение
Несчастье
Когда бы Несчастье явилось ко мне
в обличии рыцаря да на коне,
грозящим со мной не стесняться, —
я мог бы над Ним посмеяться.
Когда бы Оно мою жизнь и покой
пыталось разрушить железной рукой
и лик Его злом искажался —
уж я бы над Ним потешался.
Но дело все в том, что в природе Оно
неясною мерою растворено
и в тучке, и в птичке взлетевшей,
и в брани, что бросил сосед на ходу,
в усмешке, мелькнувшей в минувшем году,
в газете, давно пожелтевшей.
Но в том-то и дело, что нам не видать,
когда Ему выпадет нас испытать
на силу, на волю, на долю.
Как будто бы рядом и нету Его,
как будто бы нет вообще ничего —
а раны посыпаны солью.
Нельзя быть подверженным столь уж всерьез
предчувствиям горьким насмешек и слез,
возможной разлуки и смерти...
Гляди: у тебя изменилось лицо!
Гляди: ты боишься ступить на крыльцо,
и пальцы дрожат на конверте!
И все ж не Ему достаются права,
и все же бессильны Его жернова:
и ты на ногах остаешься,
и, маленький, слабый, худой и больной,
нет-нет да объедешь Его стороной,
уйдешь от Него, увернешься.
Наверно, в амбарах души и в крови
хранятся запасы надежд и любви
(а даром они не даются).
И вот, утверждая свое торжество,
бывает, погоны срываешь с Него...
Откуда и силы берутся?
Исторический контекст
Стихотворение это написано в 1989 году, но впервые опубликовано в журнале «Юность», в августовском номере 1991 года — можно сказать, в самые последние дни советской власти. При желании в этом можно увидеть нечто символическое.
Давайте вспомним, что это было за время. В стране уже несколько лет шла объявленная сверху перестройка, то есть высшее партийное руководство пыталось реформировать советский строй: сохраняя почти неизменной социалистическую экономику, ослабить идеологические догмы, сделать социализму косметическую операцию, чтобы лицо его стало наконец-то человеческим. Это выразилось в освобождении политзаключеных, в объявленной гласности (то есть, проще говоря, свободе слова), в публикации ранее запрещенной литературы, в отмене государственного атеизма. Уже можно стало веровать во что хочешь, не притворяясь и не маскируясь.
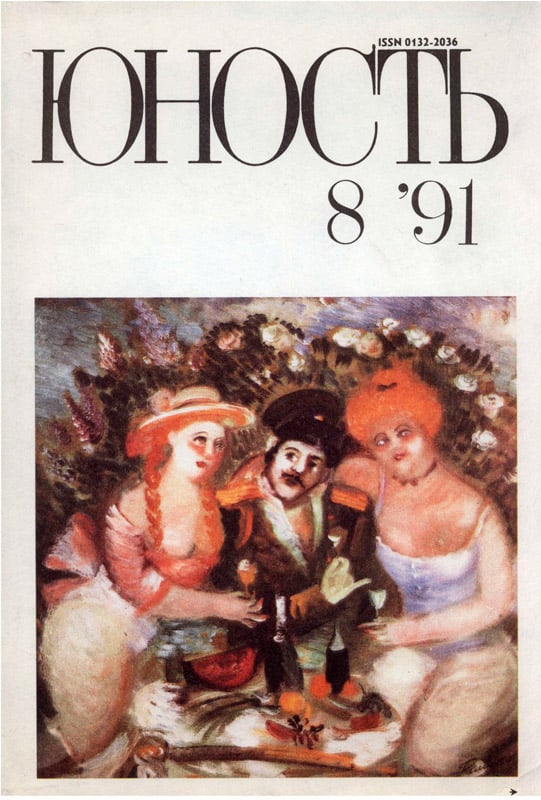
Советская интеллигенция в массе своей встретила новую политику на ура. В воздухе повеяло весной, появились надежды, что наконец-то закончатся все «свинцовые мерзости» прежней жизни, что народ заживет счастливо, сохранив от советской системы всё хорошее (то есть социальные гарантии государства) и переняв всё хорошее от капитализма (свободу, демократию, права человека, частное предпринимательство).
Сейчас, глядя на эту эпоху спустя без малого сорок лет, вспоминая свою молодость, я вижу, насколько наивными, безосновательными были эти надежды. Но людям тогда действительно казалось, что наступило то самое время, о котором четвертью века раньше писал другой кумир шестидесятых, Евгений Евтушенко: «О, вспомнят с чувством горького стыда // потомки наши, расправляясь с мерзостью, // то время, очень странное, когда // простую честность называли смелостью».
Булату Окуджаве, к тому времени кумиру миллионов, знаменитому барду, тоже была свойственна эта перестроечная эйфория. Во второй половине 80-х годов он активно выступал с концертами, у него стали чаще выходить книги и публикации в периодике. Видимо, ему казалось, что наступает наконец «эра милосердия», что зло (точнее, социальное зло) отступило. Но, человек умный и глубокий, он не мог не задумываться о корнях зла, которые гораздо глубже, чем казалось многим восторженным интеллигентам тех лет.
Автор
Булат Окуджава родился в Москве в 1924 году, его родители, Шалва Степанович Окуджава и Ашхен Степановна Налбандян, были партийными работниками. Оба были репрессированы: отец расстрелян в 1937 году, мать арестована в 1938 году и находилась в заключении до 1947 года. В 16 лет Булат переехал из Москвы в Тбилиси, к родственникам. Работал на заводе учеником токаря, а как только началась война, пытался пойти на фронт. Удалось это ему лишь в 1942 году, он воевал, был ранен под Моздоком. Об этом позднее Окуджава написал в автобиографической повести «Будь здоров, школяр».
После войны он учился в Тбилисском университете, после окончания работал в Калуге учителем русского языка и литературы. В 50-е годы начал писать стихи и некоторые из них исполнять под гитару. В 1959 году Булат Окуджава переехал в Москву и довольно быстро приобрел известность как бард. Большинство наиболее известных его песен, таких, как «Песенка о Лёньке Королёве», «Песенка о полночном троллейбусе», «Московский муравей», были написаны как раз в это время, в начале шестидесятых годов.
Он писал также и песни для кинофильмов, многие из них помнят и исполняют до сих пор. Писал он и прозу — как автобиографическую, так и историческую (романы «Свидание с Бонапартом», «Путешествие дилетантов», «Похождения Шипова»).
Но в основном Окуджава известен как бард. Нельзя утверждать, что он стал родоначальником жанра (одновременно с ним, если не раньше, начинали и Юрий Визбор, и Михаил Анчаров), но что он был одним из «столпов» и «отцов-основателей» — это несомненно.
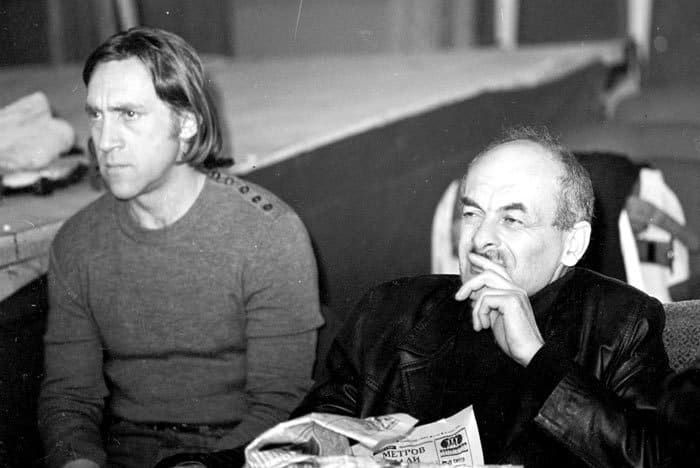
Его песни брали за душу не столько мастерством исполнения, изощренностью музыки, сколько трогательной, искренней интонацией. Оказалось, можно и так — без громокипящего пафоса, без эмоционального надрыва, обращаясь не к огромным народным массам, а к отдельному человеку. Не к винтику государственной машины, а к живому человеку, который любит, надеется, боится, страдает, мечтает. Иначе говоря, это та самая душевность, до которой если не дорасти, то и духовности никакой не будет.
Творчество Окуджавы нравилось не всем. Его обвиняли в воспевании мещанства, в идейной незрелости. Нельзя сказать, что власти его преследовали — подобно тому, как было с Галичем, Бродским или Солженицыным. Он не считался диссидентом, не подвергался явным гонениям, но и полностью своим для советской власти все же не был. Несмотря, кстати, на членство в партии, куда вступил в 1956 году, после ХХ съезда, разоблачившего культ личности Сталина.
В постсоветской России Булат Окуджава придерживался прежних своих взглядов: последовательный антисталинизм, права человека превыше всего, максимальная свобода слова, контроль общества над государственной властью... За это подвергался осуждению со стороны патриотической общественности. Думаю, он и в самом деле воспринимал тогдашние события в черно-белом свете, не видя оттенков и полутонов. Безоговорочно поддерживал Ельцина в событиях октября 1993 года (напомню для молодежи, что тогда в России случилась краткосрочная гражданская война, где обе стороны — и президентская, и парламентская, были по-своему «хороши»). Столь же безоговорочно Окуджава осудил первую чеченскую войну, и с некоторыми его тогдашними высказываниями совершенно невозможно согласиться.
Что касается религиозных взглядов, сам он называл себя атеистом, но последовательным атеистом вовсе не был. В раннем детстве, в Москве, Окуджава узнал о православной вере благодаря своей няньке, Акулине Ивановне (об этом написал в своем романе «Упраздненный театр»). Ей же он посвятил стихотворение 1989 года «Нянька», которое стоит привести полностью:
Акулина Ивановна, нянька моя дорогая,
в закуточке у кухни сидела, чаек попивая,
напевая молитвы без слов золотым голоском,
словно жаворонок над зеленым еще колоском.
Акулина Ивановна, около храма Спасителя
ты меня наставляла, на тоненьких ножках просителя,
а уж после я душу сжигал и дороги месил...
Не на то, знать, надеялся и не о том, знать, просил.
По долинам и взгорьям толпою текло человечество.
Слева — поле и лес, справа — слезы, любовь и отечество,
посередке лежали холодные руки судьбы,
и две ножки еще не устали от долгой ходьбы.
Ах, наверно, не зря распалялся небесною властью
твой российский костер над моею грузинскою страстью,
узловатые руки витали теплей и добрей,
как молитва твоя над армянскою скорбью моей.
Акулина Ивановна, все мне из бед наших помнится.
Оттого-то и совесть моя трепетанием полнится.
Оттого-то и сердце мое перебои дает,
и не только когда соловей за окошком поет.
Акулина Ивановна, нянька моя дорогая,
все, что мы потеряли, пусть вспыхнет еще, догорая,
все, что мы натворили, и все, что еще сотворим —
словно утренний дым над тамбовским надгробьем твоим.
Мне кажется, последовательный атеист написать бы так не смог. А вот запутавшийся, ищущий, сомневающийся и все же надеющийся на загробную встречу с близкими — мог.
Умер Окуджава в 1997 году во Франции, будучи там в гостях. За несколько часов до смерти он принял православное крещение (на что по телефону его жене Ольге дал благословение архимандрит Иоанн (Крестьянкин)). На вопрос жены, с каким именем его крестить, из последних сил сумел ответить: «Иоанн». Отпевали его уже в Москве, в храме святых бессребреников Космы и Дамиана в Столешниковом переулке.
Произведение
«Что хотел сказать поэт?»
О чем, собственно, эти стихи? Кстати, обратим внимание, именно стихи, а не песня — Окуджава никогда их не исполнял под гитару (хотя другие авторы позднее положили их на музыку). Прежде чем ответить, сделаю важное замечание.
Школьное преподавание литературы приучило многих к мысли, будто, сочиняя стихотворение, поэт всегда сознательно, расчетливо вкладывает в него некую идею, некий четкий посыл, и задача читателя состоит в том, чтобы эту авторскую идею расшифровать. На самом деле это сильное упрощение, так бывает далеко не всегда.
Во-первых, сочиняя стихи, поэт зачастую действует иррационально, не отдает себе отчета, зачем он употребил вот в этом месте вот именно это слово, этот оборот. «Так само написалось», — порой отвечают поэты на подобные вопросы. В стихах поэт выплескивает то, что накопилось у него в душе — смутные ощущения, сильные переживания, неясные догадки, мучительные сомнения, светлые озарения. Все это внутреннее содержимое вполне может и не подвергнуться рационализации, а если и подвергнется, то лишь постфактум. «Надо же! — воскликнет поэт. — Вот что я, оказывается, имел в виду!»
Во-вторых, авторская трактовка произведения (если она вообще озвучена), разумеется, интересна, важна для понимания — но она не общеобязательна. Любое художественное произведение (не только стихи, но и проза, и музыка, и картина) порождает множество интерпретаций. Читательское восприятие произведения имеет такое же право на существование, как и авторское.
Но при одном условии — такая интерпретация не должна противоречить тексту, не должна основываться на произвольных фантазиях и допущениях, отрицающих твердо установленные факты. Например, нельзя интерпретировать стихотворение Пушкина «Я Вас любил» как адресованное его жене Наталье Гончаровой, поскольку написано оно в 1829 году, как раз когда он делал ей предложение. В самом деле, можно ли предлагать руку и сердце женщине, которую уже почти не любишь и которой желаешь любимой быть другим?

Мы не знаем, как сам Булат Окуджава трактовал свое стихотворение «Несчастье». До нас не дошли рассказы современников или письма Булата Шалвовича, в которых он бы озвучивал свою версию. И неудивительно: поэт выражает свои мысли и чувства стихами, а не комментариями к стихам. Ведь если эти мысли и чувства можно выразить в другом формате — прозаическом, публицистическом, зачем тогда писать стихи?
Вот именно поэтому я далее даю свою интерпретацию. Надеюсь, она не противоречит ни тексту стихотворения, ни фактам биографии поэта.
Зло явное
Если в двух словах — это стихи о наличии зла в мире и о том, как надлежит относиться к злу. Позиция, которую здесь постулирует Окуджава, — это позиция светского гуманиста, а не христианина. Однако здесь есть нечто большее, чем просто позиция, — здесь есть очень глубокие интуиции.
Но давайте по порядку.
Когда бы Несчастье явилось ко мне
в обличии рыцаря да на коне,
грозящим со мной не стесняться, —
я мог бы над Ним посмеяться.
Здесь речь о том, что, когда зло проявляет себя демонстративно, когда оно не скрывается, не притворяется, противостоять ему проще. Как говорили еще римляне, «предупрежден — значит вооружен». Да, нет никаких гарантий победы, да, ты можешь оказаться слаб, зло может тебя уничтожить, но, по крайней мере, ты ясно понимаешь, что происходит.
Откуда, кстати, взялся образ Несчастья (обратим внимание на заглавную букву в этом слове) как рыцаря? Некоторые литературоведы полагают, что тут отсылка к драме Александра Блока «Роза и Крест» 1913 года — среди главных героев этой драмы, чье действие происходит в XIII веке на юге Франции, есть некто Бертран, сторож замка, у которого прозвище Рыцарь Несчастие. Возможно, такая отсылка у Окуджавы и была, но надо сказать, что в блоковской драме Бертран вовсе не является каким-то воплощенным злом, он герой скорее положительный. Мне кажется, тут рыцарь на коне символизирует силу, могущество и, скажем так, санкцию на насилие. Если дать волю ассоциациям, тут можно вспомнить и о всадниках Апокалипсиса, ставших уже мемом, известных и тем, кто самого Апокалипсиса не читал.
Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный и чтобы победить.
И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.
И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей.
И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай.
И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри.
И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными (Откр 6:2–8).
Во второй строфе развивается мысль первой: если бы это воплощенное Несчастье железной рукой разрушало жизнь лирического героя — явно, демонстративно, издевательски, то он бы над этим злом потешался.
Давайте задумаемся: а почему именно такая реакция? Зачем потешаться, смеяться? Почему не героически биться, не скрипеть зубами от ненависти? Или, наоборот, не противиться злу, понять и пожалеть?

Мне кажется, потому, что смех — это позиция свободного человека. Несломленного, несдавшегося, не отравленного злом. Потешаться — значит демонстрировать злу: ты властно лишь над моим телом, но не над душой! Я знаю тебе цену, я не цепенею от ужаса, не преклоняюсь перед тобой, не подвержен стокгольмскому синдрому. Ты можешь меня убить, но не можешь заставить видеть мир твоими глазами.
Как это оценивать с христианской точки зрения? Есть ли здесь доля гордыни? Наверное, есть. Наверное, считать, что ты настолько внутренне, духовно силен, что можешь в одиночку, без помощи Божией, сохранить свою душу от зла, это неправильно, это наивно. Но здесь есть не только гордыня, здесь есть и ощущение образа Божия внутри тебя. Именно образ Божий, именно Его дары (например, дар различения добра и зла) помогает тебе осознать зло и не встать на его сторону.
Зло скрытое
Но читаем дальше.
Но дело все в том, что в природе Оно
неясною мерою растворено
и в тучке, и в птичке взлетевшей,
и в брани, что бросил сосед на ходу,
в усмешке, мелькнувшей в минувшем году,
в газете, давно пожелтевшей.
И вот тут уже переход на более глубокий уровень. Тут интуитивное ощущение, что мир лежит во зле (1 Ин 5:19). То есть что творящееся вокруг зло, несчастья, беды — это результат причинно-следственных цепочек. Сосед бросил на ходу брань — вроде мелочь, пустяк, но кого-то его брань задела, человек в какой-то ситуации сорвался на кого-то, тот тоже в свою очередь — и пошла раскручиваться цепочка передачи зла, причем его масштаб со временем может увеличиваться. Потому что сосед, допустим, мало на что может повлиять, но кто-то, до кого годы спустя долетела выпущенная им агрессия, обладающий большими возможностями, способен принять роковое решение, и пострадают тысячи, если не миллионы.
И даже тучка и птичка, вещи вроде бы природные, этически нейтральные — это все равно та среда, в которой живут люди. Живут и действуют. У меня тут, кстати, возникла ассоциация с рассказом Рэя Брэдбери «И грянул гром», где герой, оказавшись в далеком прошлом, наступил на бабочку, а вернувшись на машине времени в свою эпоху, обнаружил, что ход истории изменился и у власти теперь президент-фашист. Вряд ли Окуджава имел этот рассказ в виду, но такая читательская аллюзия вполне возможна, она встраивается в логику авторской мысли.
А что насчет «газеты, давно пожелтевшей»? Тут возможна отсылка к газетам 30-х годов, в которых печатались репортажи с процессов «врагов народа», открытые письма трудящихся, требующих сурово покарать, растоптать, расстрелять...
Можно ли трактовать слова «в природе Оно // неясною мерою растворено» с позиций христианского богословия? Вполне. Это значит, что после грехопадения Адама и Евы в Эдемском саду изменились не только они сами, изменился вообще весь тварный мир, вся вселенная. Именно тогда зло — как распад, как энтропия, как хаос — вошло в мир.
Вкладывал ли Окуджава именно этот смысл? Сомнительно. Откуда бы ему в 80-е годы знать тонкости христианского богословия, если практически никакой религиозной литературы в СССР еще не было? Но тут, по-моему, опять сработала его интуиция.
Двигаемся дальше:
Но в том-то и дело, что нам не видать,
когда Ему выпадет нас испытать
на силу, на волю, на долю.
Как будто бы рядом и нету Его,
как будто бы нет вообще ничего —
а раны посыпаны солью.
Первое, на что падает здесь глаз — это прописные буквы в местоимениях. Мы их традиционно употребляем, когда пишем о Боге. И вдруг здесь видим «Ему», «Его». Причем здесь не ошибка — в первой публикации, в журнале «Юность», те же прописные буквы, а верстку наверняка с автором согласовали.
Возникает соблазн воспринять стихотворение как богоборческое. Это самое Несчастье (вспомним, что с большой буквы!) — оно, выходит, и есть Бог, Создатель и Вседержитель? Вот сказано же: «Когда Ему выпадет нас испытать // на силу, на волю, на долю». А ведь общее место в христианской проповеди, что Бог испытывает людей! Испытывает — то есть дает им возможность действовать самостоятельно, проявить свои как лучшие, так и худшие качества. Зачем? Чтобы научить быть свободными, чтобы научить трезво видеть себя, со своими плюсами и минусами.
Имел ли это в виду автор? Да откуда же нам знать? Я вполне допускаю, что и такой поворот мысли у Булата Шалвовича мог быть. Ведь неверующий, но думающий и ищущий человек рано или поздно (чаще рано) сталкивается с огромной проблемой, которая называется теодицея, в переводе с греческого — «оправдание Бога». Если Бог благ и милосерден, а также всемогущ и всеведущ, то как же объяснить наличие в мире зла? Почему Он не взмахнет волшебной палочкой и не устранит все несчастья? Не хочет? Значит, Он не милосерден. Не может? Значит, Он не всемогущ. И вряд ли советским интеллигентам, задумывавшимся над этим роковым вопросом, мог быть известен ответ Церкви, то есть что Бог сотворил человека свободным и потому не может насильно сделать его хорошим.
Тем не менее такой поворот авторской мысли мне кажется маловероятным. О причине скажу ближе к концу этой статьи. По-моему, употребление заглавных букв здесь объясняется иначе — Несчастье, с которого начинается стихотворение, персонифицируется, воспринимается не как свойство мира, а как разумная, действующая личность. Только это не Бог, а давний Его противник — сатана.
Но вернемся к этой строфе. Если отвлечься от темы заглавных букв, что тут говорится? Что мы далеко не всегда видим в нашей жизни зло, что оно может уже на нас воздействовать, а мы этого до поры до времени не ощущаем. И даже когда испытываем душевную боль («а раны посыпаны солью»), то не задумываемся о причинах и потому оказываемся беззащитными перед злом. Ведь тут зло не явное, не жестокий рыцарь на коне, а нечто незаметное, как тучка или птичка. Сравним это с христианским отношением к злу — то есть к мысли, что христианин всегда должен быть наготове, всегда должен ожидать дьявольского нападения. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Пет 5:8). Или у апостола Павла: Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба... (1 Фес 5:3).
И вот эта мысль — что к нападению Несчастья всегда нужно быть готовым, что нельзя расслабляться — вполне естественна. Об этом Окуджава мог догадываться, и не читая апостольские послания.
Бояться ли зла?
Но читаем следующую строфу:
Нельзя быть подверженным столь уж всерьез
предчувствиям горьким насмешек и слез,
возможной разлуки и смерти...
Гляди: у тебя изменилось лицо!
Гляди: ты боишься ступить на крыльцо,
и пальцы дрожат на конверте!
Здесь звучит антитеза только что сказанному. Да, нельзя расслабляться, но нельзя и пребывать в постоянной панике, постоянно ощущая свою беззащитность, ждать удара в любой момент и с любой стороны. Потому что это сводит с ума, парализует и, когда зло, наконец, ударит, не дает возможности сопротивляться.
Здесь очень емкий образ «и пальцы дрожат на конверте». Конверт с письмом, и письмо может предвещать разное — и хорошее, и плохое, но плохого мы ожидаем чаще. Потому и пальцы дрожат.
Глубоко верующему христианину в этом смысле проще — он надеется на Бога, он уверен в Его любви, уверен, что в любой, самой ужасной ситуации Бог будет рядом, в сердце, что поддержит, не даст сломаться, направит ход событий так, что в итоге это послужит к пользе для души. Светский гуманист, агностик, на такую поддержку не рассчитывает (во всяком случае, на сознательном уровне). Но и он в какой-то мере способен владеть собой, не поддаться страхам и предчувствиям — если имеет внутренний стержень.
И вот именно к этому, к внутреннему стержню, Окуджава далее и переходит:
И все ж не Ему достаются права,
и все же бессильны Его жернова:
и ты на ногах остаешься,
и, маленький, слабый, худой и больной,
нет-нет да объедешь Его стороной,
уйдешь от Него, увернешься.
Оказывается, это самое Несчастье, будь оно рыцарем на коне или тучкой-птичкой — не всесильно. Если будешь сопротивляться, если не поддашься гипнозу зла, то имеешь реальный шанс увернуться.
А кстати, о каких жерновах тут речь? Это просто образ некой бездушной силы, превращающей человека в пыль (в «лагерную пыль», как некогда цинично выразился нарком НКВД Лаврентий Берия)? Или тут возможны какие-то библейские отсылки? Опять же, мы не знаем и никогда не узнаем, вкладывал ли Окуджава в это слово какой-то дополнительный смысл. Но христианин, наверное, вспомнит из Евангелия от Матфея: А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской (Мф 18:6). Если так, то жернова тут ассоциируются со злодеями-соблазнителями — то есть зло будет пытаться тебя соблазнить, сделать частью той же силы, но ты устоишь, увернешься. А можно вспомнить и образ из ветхозаветной книги Иова: Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов (Иов 41:16) — то есть увидеть здесь аллюзию на жестокость представителей этого самого Несчастья, чьими руками оно и предпочитает действовать.
И вот что еще важно — подчеркнутое «маленький, слабый, худой и больной». То есть ты спасаешься не благодаря своим выдающимся боевым качествам, а вопреки слабости. А почему? А потому что на самом деле это не ты спасаешься, а тебя спасают. И тут сразу вспоминаются слова Христа, сказанные апостолу Павлу: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи” (2 Кор 12:9).
И переходим к финальной строфе:
Наверно, в амбарах души и в крови
хранятся запасы надежд и любви
(а даром они не даются).
И вот, утверждая свое торжество,
бывает, погоны срываешь с Него...
Откуда и силы берутся?
А тут — ответ, почему все-таки иной раз удается справиться со злом, с этим инфернальным Несчастьем. Ты ведь не случайно «объедешь Его стороной», а потому, что на самом деле у тебя есть сила. Только не та, о которой мечтают слабые люди, — не физическая мощь, не деньги, связи, влияние и даже не могучий интеллект, позволяющий всех обхитрить и выпутаться из любой передряги. Нет, это любовь и надежда. Все доброе, что мы совершаем в жизни, все те светлые чувства, которые порой испытываем, — они никуда не исчезают, даже если нам кажется обратное. Они хранятся в «амбарах души и в крови». И в нужный момент используются.
Точнее, так: в православии есть понятие синергии, то есть совместного действия, соработничества Бога и человека. Как писал святитель Феофан Затворник, «сотворить нас без нас мог Бог, а спасти нас без нас не может» (иногда это пересказывают более кратко: «Бог спасает нас не без нас»). То есть Бог, спасая человека от воздействия зла, от воздействия сатаны, опирается на то доброе и светлое, что в сердце человека есть. Использует то, что хранится в «амбарах души».
А эти запасы, продолжает Окуджава, даются не даром. Даются трудом, трудом души, опытом перенесения страданий. Тут сразу вспоминаются его же стихи:
А душа — уж это точно! —
Ежели обожжена,
То справедливей, милосерднее
И праведней она.
Окуджава мог не задумываться о том, какую роль в спасении от зла играет Бог, но он очевидно чувствовал, что без запасов надежды и любви ничего не получится. В этом уравнении с двумя переменными он видел по крайней мере одну.
И наконец, «бывает, погоны срываешь с Него». Вот именно эта строчка убеждает меня, что под Ним с большой буквы автор подразумевал вовсе не Бога. Потому что Бог в погонах — это ну уж явно сапоги всмятку, это то, что, как мне кажется, для Окуджавы было невозможным чисто стилистически.
Зато с этими срываемыми погонами (вернее, с их обладателями) вполне ясно ассоциируются люди, вставшие на путь зла, служители Несчастья с большой буквы. И пускай чаще всего такое срывание погон (то есть развенчание былого величия) происходит лишь постфактум, посмертно, оно совершенно необходимо: это показывает людям, что зло не всесильно, не вечно.
Да, в некотором смысле здесь «понижение градуса» — только что речь шла о вещах метафизических, об инфернальном зле, о любви и надежде, а потом вдруг приходим к обличению конкретных негодяев (а в контексте всего творчества Окуджавы — это прежде всего Сталин и его приспешники). Но и это может быть поэтическим приемом — такое «заземление» текста, чтобы сбросить в финале избыток пафоса. А пафос тут мог бы все испортить.
* * *
И само это стихотворение Окуджавы, и другие его стихи (и не только его) лишний раз убеждают меня в том, что Дух дышит, где хочет (Ин 3:8), что очень верные и глубокие вещи открываются не только верующим, воцерковленным христианам, но и людям «внешним», находящимся в духовном поиске. И нам, воцерковленным, есть о чем задуматься и чему у них поучиться.








