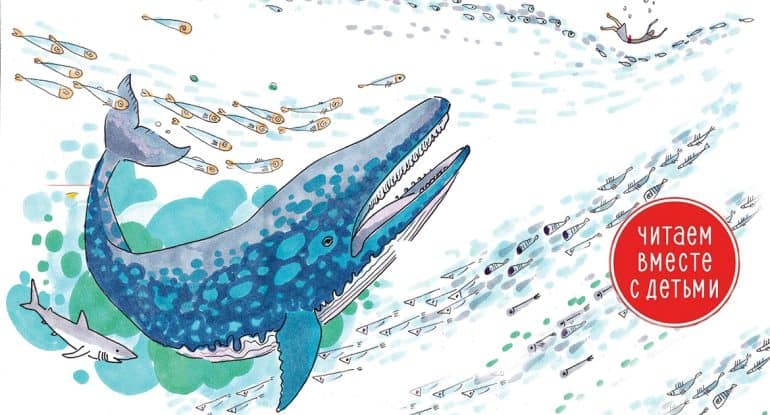Приход — это когда люди приходят. К Богу. Иначе приходить в храм возможно, но это уже не приход. Неприходских людей много: прохожане, захожане и другие. А прихожане общаются только между собой, кустами, небольшими группками, как небесные силы; у каждого — свой чин. Прасковья Петровна, матушка Елена, Сергей Андреевич, батюшка Владимир — всё как положено. У каждого — своё дело, свои интересы. Та ходит свой род вымаливать, эта — мужа, третья — кормить детей. Всё вместе называется приходом. Все высказывания в свой адрес прихожане воспринимают как поношение: грубое или тонкое. Словом, все прихожане — мученики, исповедники и страдальцы. Очень любят говорить о своей гордыне и недостоинстве. Со своей стороны, прохожане и захожане тоже воспринимают каждое высказывание приходских в свой адрес как поношение. Эти просто обижаются. Так и носят — каждый поношение другого. Ну хоть так — носят.
*
Герде то и удивительно было, что просто подойти и заговорить на приходе нельзя. То есть, относительно крещения, причащения, соборования тебя ещё кое-как выслушают, а вот общаться никто не станет. Ну, в гости позвать, позвонить, с праздником поздравить. Только своим, для которых есть время.
«Странно, а почему у меня для всех время есть?» — недоумевала Герда. Тратить это время было не на кого.
— Сама и отучила, — поморщился на жалобу отец Михаил. Жалобы он тонко презирал: явное самооправдание, слабый народ пошёл. Нет, чтобы одной волной покаяния, раз — и всё. А то вон они исповедники, слишком много хотят от священника. И эта, с психическим расстройством, тоже хороша: лукавства много.
— Ты вон как, колючками обросла. Смирись. Пойми, что в твоём положении не стыдно звонить и просить помощи. Ты и позвони, попроси. Не откажут.
Герда воодушевлялась, звонила и слышала в ответ: у меня работа, у меня дела, меня болящая ждёт. Выслушав, успокаивалась, пока, наконец, совсем не успокоилась и не принялась за знакомое с училищной юности ремесло: плетение из нитей разных вещей и шитьё костюмов. Тут-то Гердина история и началась.
*
Крещёное Гердино имя было Вера, но от весёлого «герла», сказанного в состоянии насморка, и произошла много лет назад Герда. Кай, понятно, подразумевался, но вместо него раз и навсегда явился в Гердиной жизни Мастер. Именно тогда, когда двадцатилетняя Вера закончила училище и готовилась к первой персональной выставке. В памятный день выставочный зал был увешен коврами-макраме ручной работы. Герла ходила и смотрела на них критически. Ах, здесь немного, ах, там чуть-чуть.
Ковры покупали и сейчас; редко, но метко. Так что училище герле пригодилось. Мать её как-то скоро развелась с отцом, затем ловко вышла замуж, по её словам, для герлы же, и с тех пор сошла с горизонта. Бабка, в чьей квартире герла проживала, поначалу принялась герлу перевоспитывать, но ничего не вышло. Всё же училище, богема, тонкие сигареты, вечеринки и озарения. Не к тому говорю, что сигареты хорошо, а к тому, что герле и в голову не пришло бы сделать ироническую мину в платке: ага, мол, сигареты. Герла жила просто и красиво, как плела ковры. Если любила, то от всего сердца, а если радовалась, то глубоко.
Расхождение герлы с богемой и произошло на почве иронической мины. Только теперь мина была длинноволосая и нечёсанная: ага мол, знаем мы вас, христианочек! Как любить и как радоваться, чтобы стать навек счастливой, богема не знала. Герла тоже не знала и потому в поисках высшего счастья пришла в храм.
Никогда и ничего герла у Бога не просила. Она только сознавала свою неизбежную сальность перед ним, какую-то блудливую патину, нечистоту, и потому несчастность. Но ведь знала же она, что сотворена свободной и прекрасной, как ангел, и ей хотелось быть ангелом. Внешность у неё была соответствующая.
Относительно психической ненормальности разговоры были с самой юности, а бабка, правда, однажды сдала свою внучку в психушку, обнаружив в её комнате троих спящих на полу ребят и пачку сигарет. Что с герлой делали в психушке, неизвестно, но вышла она оттуда уже со справкой об инвалидности.
Битлов она слушать не перестала, и в храм ходить тоже. Никаких пока противоречий между ними не выявлялось. Да она про битлов особенно и не рассказывала. Год, один, другой, пять лет — и наконец герла загрустила.
Ковры она плела старательно, а теперь принялась с большим старанием и большей любовью. В мелких просьбах от храма никогда не отказывала, но никогда целиком отдать свои дары иконописной мастерской не мечтала. Духовного отца у неё не было, искать его не получалось. Так что герла жила сама по себе. Наконец, бабка умерла, и герла всю её комнату заняла мастерской.
*
Выставка в известном комплексе навалилась на отца Михаила как подвес со стрелы. Никому кроме Татьяны Фёдоровны и Ольги Фёдоровны сие дело поручить нельзя было. Да и никто кроме них не взялся бы. Одно: не могу, завтра мой батюшка служит, а другое: батюшка, благословите. И то ладно — хоть какое-то послушание.
Однако с выставкой надо было что-то делать, чтобы она, наконец, состоялась. Место определили, сроки назвали. Теперь, Фёдоровны, выручайте.
Обе Фёдоровны были дамы замужние, живчики и довольно образованные, с высшим инженерным. Происходили они из породы последних советских баб. Тех баб, с которыми священнику проще всего организационными делами заниматься. Они и батюшку вовремя подвинут, и лицо общины прилично покажут. В то же время была в них и ясность, и строгость, и чинность, словом — на вас, Фёдоровны, вся надежда. И ведь согласились! Попробовали бы отказаться — за послушание-то!
И началось. Татьяна Фёдоровна съездила осмотреть местечко, маленькую такую лавочку, похожую на соляной кристалл среди таких же соляных кристалликов в одном огромном слитке из стекла и бетона. Ольга Фёдоровна молебен заказала и с молебна поехала по мастерским — отбирать изделия. За вечерним чаем вспомнили о герле. Обе согласились, что ковры смотрелись бы очень выгодно среди множества серых и дорогих льняных юбок. Цену тут же определили, число и расцветки ковров тоже. Но вот на разговоры с герлой времени не было.
*
Для переговоров решили отправить к герле Дуняшу. Крещённое имя Дуняши было Анна, но дома называли её Нюшей. Однако на приходе уже была пятилетняя Нюша, дочка известного чада известного отца, бывшей актрисы или филологини. Так что Анну Соколову Фёдоровны переименовали в Дуняшу. Попробуй не отзовись.
*
Теперь о главной героине. Дуняше недавно исполнилось двадцать лет. Она была почти мужского роста, метр семьдесят восемь — сама говорила, сколько; и очень тонкая. Лицо было длинным, правильным, строгим. Если бы Дуняша пошла в шоу-бизнес, из неё вышла бы какая-нибудь милая невеста. Но Дуняша в пятнадцать лет начиталась газеты «Радонеж» и «Добротолюбия». И даже теперь слегка краснела, когда отец Михаил за приходским чаем начинал песнь об обретённом поколении. А если сам главный редактор известной московской газеты «25 января» появлялся в храме, Дуняшины глаза начинали светиться: вот оно, обретённое поколение!
Дуняша отличалась какой-то ловкой и умелой послушливостью, и ей удавалось почти всё, о чём бы ни попросили. Одевалась она с претензией на кутюр, то есть шила сама. Шитьё любила и могла в случае чего даже подработать пошивом модных юбок. Как-то случилось, что все наставления отца Михаила, кровной дочерью которого Дуняша себя считала, пошли ей впрок. Года не минуло, а семнадцатилетняя дочка привела к купели обоих своих родителей, а потом приход поздравлял сорокалетних новобрачных. Дуняша закончила светскую школу. Со сверстниками держалась ловко и смело, опять-таки по наставлениям отца Михаила, и даже стала у кого-то из однокашников крёстной. Родители её были состоятельными, так что дочка поступила не куда-нибудь, а в МГУ на юрфак, правда, на заочный. Храм Дуняша оставить не могла. И вот уже третий курс.
— Спать не менее семи часов в сутки! — Повелительно изрекал польщённый успехами Дуняши отец Михаил. — И чтобы всё сдала, всё! На пятёрки!
Дуняша подумывала поступать после МГУ в Свято-Тихоновский, но эта мысль была слишком глубокая и слишком сладкая, чтобы высказывать её родителям.
Даже внешне Дуняша радовала глаз. Под лазоревой бледностью студентки играла молодая кровь с молоком, улыбка, кажется, звенела, как колокольчик, а зубы и пищеварение были в полном порядке. Волосы у Дуняши были от природы каштановые, почти рыжие. Глаза небольшие и блестящие, как бусинки.
— Ну хоть один здоровый человек, на радость всем! — Говаривал отец Михаил. — А то всё болящие. То печень, то почки, то астма. Скучно. Ни попостишься, ни утром в храм не сходишь. Есть и полуздоровые. Эти сою едят. А что такое соя? Китайская, нерусская еда. То ли дело капуста! Хочешь — вари. Хочешь — туши!
И у Дуняши всю зиму на балконе стояли вёдра с квашеной капустой.
*
Отец Михаил болящих не то чтобы не любил, а так. Не знал, что с ними делать. У болящих всегда много вопросов, а ответы на них однозначные. Или вовсе один: как совесть. В каждом вопросе болящего виделась отцу Михаилу провокация. Ещё он не любил задумчивых. Этих, пожалуй, ещё сильнее, чем болящих. Лукавства много. Его пугала любая психическая складка — а кто тебя знает, кто ты, человече? Побаивался скандала и долгих разговоров на исповеди: ну десять раз одно и то же! С Дуняшей он по-хорошему дружил. И потому, когда та подлетела к нему просить благословения на помощь в организации выставки, благословил.
— Теперь ещё одно, батюшка. Татьяна Фёдоровна просила к Вере Орловой съездить. Хочется на выставке несколько её работ представить.
Отец Михаил как-то сразу потускнел. Не знал он, что за человек Вера, и не знал, что в таком случае посоветовать. Потому и ответил резонно:
— Это ты с Фёдоровной обсуди. Общее благословение у тебя есть.
Дуняша чинно и смиренно облобызала пахнущую мылом отеческую десницу и снова поспешила к Фёдоровнам. Только вот на душе - будто тень какая.
*
Татьяна Фёдоровна, несмотря на сухопарый инженерный вид и тихое поведение, была заводилой. Во всех начинаниях, которые предпринимали обе Фёдоровны, стратегия принадлежала именной ей. Но как только стратегия прояснялась, старшая Фёдоровна уходила в тень и начинала действовать так, как будто выполняет приказания Фёдоровны младшей. Ольга Фёдоровна, конечно, деятельность своей товарки понимала вполне. Но нрав у неё был более лёгкий и, если такое сравнение возможно, артистический. Если случалось услышать ей какой-либо укор в адрес того или иного предприятия, она отвечала мило и обаятельно. Длинные бровки чуть подымались, а щёчки вспыхивали:
— Бога ради, простите меня! Ну, уж не чаяла, что так выйдет! Ну, не сердитесь!
После такой просьбы не простить милую даму нельзя было. Впрочем, младшей Фёдоровне всё равно было, что о ней думают. Такой уж характер.
Младшая Фёдоровна сидела в приходской библиотеке за столиком и подпиливала ноготки (пол в храме помыла). Слушала старшую Фёдоровну. Будто рассеянно, приподняв высокие стрелки-бровки. А старшая Фёдоровна говорила негромко, небольшим голоском, аккуратными локотками опершись о стол и будто забыв о постной булочке с маком, в придачу к свежему чаю.
— Надо же человеку помочь. А то ходит одна-одинёшенька, как неприкаянная. Будто и не приходская она. Так нельзя…
Тут Фёдоровна-старшая запнулась и чуть скосила глаза на Фёдоровну-младшую. У той на тыльной стороне гладенькой полной кисти выступил лёгкий румянчик.
— Не по-христиански. — Узелком отделив каждый звук, закончила Фёдоровна-старшая. — К тому же она в воздух эти ковры делает. А тут польза. Конечно, согласится. Мне кажется, что мысль была… совершенно верная. Ну, я так поняла.
Младшая Фёдоровна сложила губки и сказала плавно, глядя в окошко:
— А вон Дуняша идёт. От отца Михаила, наверно.
— Да, к отцу настоятелю теперь не попадёшь. То ли дело раньше…
Так решено было взять несколько ковров у герлы для продажи на выставке. А часть от выручки (судя по тому, как дело пойдёт) отдать на нужды храма. Герла, как предполагалось, без денег не останется. Но как деньги брать за благотворительность — непонятно. А ведь герла может и взять их, деньги-то.
— Надо бы Тёму с Димой, алтарников, подготовить. Ковры-то у неё, небось, пять на пять метров. А у Тёмы лада-семёрка есть…
*
Телефон и адрес герлы Фёдоровны узнали ещё загодя, как только возникла мысль о коврах. Откуда, как — тайна Фёдоровны-старшей. Но Дуняше они были вручены с таким видом, будто сама Вера их и сообщила. Так что приходская фея пребывала в полной уверенности, что идёт в гости даже с высшей миссией: вернуть, обласкать и окружить приходской заботой заблудившуюся в житейском лесу овцу.
— Да, только любовь привлекает сердца заблудших… Правда? — Подняла носик к Фёдоровне младшей Фёдоровна старшая.
А Ольга Фёдоровна, наливая Дуняше чай, заметила негромко:
— Только она странная немного. Ты имей в виду. Да это ничего… Бог даст, обойдётся. Все мы хороши…
*
— Ковры? — Изумилась на том конце телефонного провода герла. — Что ж… приезжайте. Я всегда…
Звонок оставил в её сердце чувство тревоги. Вдруг и неизвестно откуда взялась прыть. Герла заварила чай и вместе с чашкой почти бросилась в комнату, где лежали готовые и не готовые изделия — в мастерскую. Ей не терпелось ещё раз на них посмотреть. Хоть и сама выплетала, но интерес чужого человека их будто обновил.
Часть мастерской занята была рулонами разных цветов и размеров. Конечно, герла не делала ковров пять на пять метров, хотя и намеревалась. Но для того нужны были бы потолки метров семь, а не три. На полу лежала «Роза».
Ковёр этот герла делала очень долго и он был почти готов. Однако что-то в бридах и подборе цветов герлу не устраивало. И основной цветок, и сопутствующие бутоны, и листья вроде были хороши, но не хватало какого-то последнего изящества. Для самой герлы «Роза» была странным явлением умершего уже модерна.
Недавно для одного пражского салона у герлы купили небольшой, но дорогой ей коврик «Рыбы», а заплатили весьма неплохо. Герла никогда не говорила о своих коврах в среде церковной, и теперь ей даже странно было: выставка, общение.
Для выставки оно положила дать «Казанскую» и «Троицу». Эти работы она любила, и делались они легко, как будто кто помогал. Но продавать их герла не собиралась; они были слишком дороги ей самой. «Казанская» представляла довольно точную прорисовку иконы в канонической золотисто-вишнёвой гамме, а «Троица» окружена была по ковчегу объёмно выплетенными подобиями листьев и полевых цветов.
*
Дуняша появилась минута в минуту. С удивлением обнаружила, что герла дома ходит в ярких гавайках и вельветовой рубахе. Это было неканонично. Дуняша смутилась, смолчала, а затем возмутилась, но скрепила сердце. Надо быть милосерднее к таким, шатающимся в мыслях своих. Невероятная обстановка квартиры: расписанные двери и потолки, лоскутные коврики, обилие искусственных цветов-макраме — расстроили Дуняшу окончательно. Стала как-то особенно суха, предупредительна, в голосе появилось заскорузлое медицинское сожаление. Возможно, Дуняша просто испугалась. Подумала, что герле во что бы то не стало надо показать, какая она необычная, и обязательно громко, с налёту. Будто герла тут же начнёт её шокировать разными резкими привычками, едва ли не выпустит ей в лицо наркотический дымок. Будто всё в окружающем её небольшом пространстве рассчитано только на то, чтобы её, Дуняшу, поразить, ошарашить, унизить в главных чувствах. Икон над каждой притолокой и на кухне она будто бы не заметила.
Сухо перекрестившись, гостья присела на краешек кресла. Она бы и минуты в этом доме не осталась. Однако разговаривать как-то надо было. И Дуняша поджала губки. Затем ровным и даже приветливым голоском изложила цель своего появления. Чай пить не стала, а предложенное герлой угощение, взяв двумя пальчиками, на цыпочках отнесла в сумку: на канон, на канон… Что касается ковров, то гостья даже и смотреть-то на них не хотела.
Герла была изумлена и поражена. Будто её обидели. Вдруг, сразу и надолго. Даже не саму герлу, а кого-то дорогого и близкого ей, а она вынуждена смотреть, как обижают. Потому что не смотреть нельзя. Будь в ней больше крови, она взбунтовалась бы, и никакой выставки не было бы. Но герла только смотрела огромными прозрачными глазами на чудеса Дуняши, на её кривые губки, сморщенный носик, и дивилась. То, что расписные двери могут вызвать у скромной гостьи настоящий ужас, ей и в голову не пришло.
На сердце у герлы похолодало окончательно, когда Дуняша, тоном старосты школьного класса, заявила, что экспонаты для выставки отбирать будут Фёдоровны.
— Что ж, — бормотала растерянная герла — вот небольшой каталог… возьмите.
Как и булочку с маком, взяв двумя пальчиками каталог, Дуняша отнесла его в сумку. Едва ли не для того же: положить на канон. Брать из рук не благословляется. Кажется, она даже сделала характерный жест: постучала пальчиком по крышке стола, чтобы герла положила каталог на стол. И только потом взяла.
Герла всё это видела не впервые, но впервые такие жесты относились прямо к ней. Герла ощутила всем существом, как легко и правильно её уничтожили. Будто она сама, Вера Орлова, была невесть какой нечистой силой. Она широко смотрела на Дуняшу. И ничего не могла понять. Более темпераментная душа сказала бы: вот, мне за дело, за прошлые грехи и я такого обращения достойна. Но герла крутых грехов за собой не знала. Не курила она уже давно, с больницы, а сожителей у неё не было.
«Господи, что же это? На ней или на мне всё чужое? Чужие споры, ошибки, грехи, наконец? Нет, так не должно быть, я не верю, не верю…»
Дуняша наскоро попрощалась и как-то слишком бесшумно исчезла.
Про выставку герла забыла тут же. Однако утром, увидев развёрнутую с такой любовью Казанскую, ощутила тошнотворный смуток в душе. Что-то будет.
*
Дуняша наоборот, вся загорелась и воспламенилась помогать страждущим от ков мира сего, в точности, как пишет газета «Радонеж» и некто постоянный в ней автор священник Огородников. Ей во что бы то ни стало захотелось воцерковить герлу, или же, если та окажется упорной, как-нибудь открыть ей глаза на неё нецерковность. Никогда ещё с самого утра у Дуняши не было такого прилива сил. Каникулы уже начались. Студентка выспалась, как рекомендовал ей отец Михаил, довольно плотно позавтракала, напилась чаю с лимоном, опять же, по рекомендации отца Михаила. День предстоял бурный: нужно было начать обзвон участников выставки. Предполагались костюмы из льна с пропиткой от небольшой частной мастерской «Василиса», заключение договора с Вологдой: «Лён и кружева», и много других менее значительных дел. С герлой, как ей думалось, она уже договорилась.
Едва Дуняша возникла на подворье, едва написала записки на молебен и поставила все возможные свечи, как прибежали Фёдоровны. Выглядели они озабоченными, серьёзными и, кажется, не вовсе довольными. От Дуняши отмахнулись: мол, потом поговорим. Девушка слегка оторопела. Однако хорошее настроение терять не хотелось, и Дуняша, мотнув небольшой лучистой головкой, принялась с удвоенным вниманием слушать песнопения молебна, а потом и панихиды.
На подходе ко кресту Дуняшу ловко опередила бывшая клирошанка, Света Байбакова, а теперь общественный работник.
— Ты что это на литургии не ходишь?
Дуняша так и замерла, худенькой спиной сдерживая натиск довольно солидной толпы. Даже не нашлась что ответить, а промолчать и в голову не пришло.
— Да я ведь это… в четверг причащалась…
Света Байбакова махнула модным трефовым подолом и подошла ко кресту.
Отец Михаил, наблюдая Дуняшино недоумение, как-то скоромно улыбался.
— Вы только с виду немощная. Вы сильная! — Изрёк в напутствие.
Отца Михаила позабавила сценка: Дуняша как тормоз сдерживает натиск толпы.
День начался для Дуняши против ожиданий.
Едва вышла из храма, чтобы идти в библиотеку, где был телефон, почти что наткнулась на отца Илию. И вдруг вспомнила, что забыла спросить у отца Михаила благословение на сегодняшние занятия. Ну ладно, отец Михаил теперь переодевается. Попозже. Может, у отца Илии благословиться?
*
Отец Илия Звонарёв считался почётным священником, но служил редко. Однако порой совершал требы, если касалось кого-то из его близких. Слыл молчуном, несколько замкнутым, но добрым. Слово батюшка очень к нему шло.
Дуняша подошла - очи в землю, руки лодочкой.
— Отец Илия, благословите: мне Фёдоровны поручили обзвонить участников православной выставки.
Он остановился, поднял было руку, но отчего-то задержал её.
— Выставки? Картинки с выставки? Не знаю такой.
Однако заметил, что Дуняша готова расстроиться, добавил:
— Ну-ну, не грусти. Не тебе ведь решетом воду носить.
И ушёл, как будто так и надо было.
Делать нечего. Дуняша вернулась в храм: дожидаться отца Михаила.
*
Герда ложилась спать поздно, часа в три. Особенно если было тонкое настроение и хотелось работать. А весь вчерашний вечер она работала даже от всего сердца. Визит Дуняши так подействовал на неё, что слёзы полились сами, и чрез них стали видны все мелкие тщеславности «Розы». Герда села на пол, подогнув ноги, как всегда сидела за работой, и сквозь слёзы начала распускать и доплетать.
Но на душе было нехорошо. Всё перед глазами стоял аристократический лик отца Михаила и его смех: вот мол, как всё устроилось. Всё равно носят немощи друг друга. Одна другую своим возмущением подвигла на работу. И вот, какое вдохновение! Художник! И затем следовало характерное: ух!
Лик отца Михаила сменил лик Татьяны Фёдоровны с каким-то кинематографическим вниманием к персоне герлы в глазах. Мол, вы ещё не доросли до большого искусства. Это я вам как искусствовед говорю. Вам надо стараться. Но к большому разговору об искусстве вы ещё не готовы. В ваших работах есть заявки на большое искусство. Ах, знала бы герла, что оно такое, это большое искусство!
И в дополнение возник из глубин памяти Мастер, в его худшем настроении, с какой-то перекисшей, гнилой насмешкой. «Ага! Вот они, твои проповеди! Что я говорил? Эти люди только и умеют, что гадить в душу. А она у тебя есть, душа-то?» - «Вроде должна быть», — пожала плечами герла.
*
«Господи, это ведь всё не так, совсем не так. Человек не для того создан, чтобы забирать у другого, смеяться над другим, обманывать другого. Никогда не поверю, что так должно быть, чтобы как с одеждой, чтобы хуже, чем с одеждой — с человеком. С его душой, с его упованием. Что на всём свете ничего, кроме: потерпи. Чтобы свои же, верующие, Христовы, только и смотрели, как ты поношения несёшь, и наблюдали. Чтобы долг один, а не милосердие. Чтобы без блудного сына, чтобы без святого самарянина. Разделение на христовых и не-христовых понятно, но чтобы разделение внутри христовых — это и представить ужасно!»
Из памяти снова вставал образ отца Михаила. Сама виновата. Недолюбила, недодала любви. Замкнута, неприветлива, горда, нетерпелива, мнительна.
Но тут рыбья кровь герлы возмутилась.
«Никогда! Это я точно знаю! Никто из них, из этих платкастых, не может быть так открыт и щедр, сообразно с тем, что имеет. Это только Мастер мог…»
К полуночи наступило сладкое забвение. Герда продолжала скреплять редкие узлы и плакала. Но душа её уже переселилась к Сайгону, известной в прошлом питерской столовке. Именно там герла и встретила Мастера.
*
То было нечто единое и светлое, но разбившееся и растоптанное, так что осталась только пронизанная солнцем пыль. Мастер приехал из Казхахстана, был высок, белокур, обладал красивым голосом, умел петь и лечить руками. Его босоногая красота, истрёпанная на трассе и в поездах джинса тёмно-лилового цвета — могли возникнуть во вселенной только раз. Он был тих, скромен и даже взял Герде кофе, хотя тогда она сама угощала всех: продала очередной ковёр. Кажется, третий. Что удивительно: на вписке, куда его привела смущённая герла, Мастера знали и даже обрадовались ему. Мастер был наркоманом, но это не важно. В то лето он переламывался и ничего крепче пива не пил. Да и то бутылку в день.
— Ты знаешь, это же хорошо! Без табака, водки, и прочего. Я слышу ветер, облака, даже небо. А ночью я расскажу тебе, как поют звёзды. Они ведь поют.
По странному совпадению, едва Герда намеревалась привести Мастера в храм, тот напивался водкой. Пил он много, и пьяным был хуже нечистой силы. Это герла поняла, что человек может быть хуже нечистой силы, ещё гнуснее. Но Мастер всё же обладал волей, и едва хмель проходил, ещё сколько-то держался молодцом.
Золото волос Мастера, казахстанско-петербургская пыль, пронизанная солнцем, какие-то милые улыбки, будто у них с Мастером всё сложится хорошо, но главное — полёт. Герла помнила, кажется, всё, до мелочей. Голова кружилась, как у девочки, выпившей впервой и лишнее. Герла уже улыбалась над своей «Розой».
*
Одиночный строгий звонок раздался ровно в одиннадцать утра и вытащил герлу из постели. Хотя какая там постель — после такой ночи. Набросив тунику, Герда метнулась к двери, слабо соображая, зачем вообще открывает дверь. Словно магнитом тянуло её на этот одиночный роковой звонок. Но в душе её уже была какая-то кроткая и сильная готовность, какая-то нездешняя уже покорность.
— Сейчас открою, сейчас…
Будто кого спасала она, будто кто замерзал у самых её дверей, будто кто искал убежища в её расписной малометражной двушке.
Перед Фёдоровнами возникла раскрасневшаяся женщина, уже немолодая, в торчащей из-под туники дешёвой ночнушке, размеров на шесть больше. Фёдоровны переглянулись. Так и есть, не в себе девушка.
— Мы не вовремя? Извините! Но Дунечка сказала, что вы приготовили всё для выставки… Мы уже и каталог ваш просмотрели… — Залепетала Ольга Фёдоровна.
— Отчего же, входите…
— Вы ведь знаете нас: я — Ольга Фёдоровна, вот — Татьяна Фёдоровна. А это Антон, водитель. Пустите нас к себе?
— Да-да, вот сюда, пожалуйста. Вот тапочки.
— Да что вы! Мы на минутку. За коврами. Вы не рассердитесь ведь, если мы без тапочек, в обуви. Приехали в машине, на улице чисто.
— Да-да.
Дальнейшее происходило с какой-то неестественной быстротой. Все прошли сразу же в мастерскую. И отчего герла повела их сразу в мастерскую? Ведь они же торопились! Куда, зачем, и так поспешно. Что-то герле напоминал этот приход. Внезапный, с одиночным звонком, с увозом вещей, с чёрной машиной у подъезда.
Увидев «Розу», Ольга Фёдоровна воскликнула:
— Ах, как хорошо! Вы, конечно, позволите нам взять эту работу.
— Да-да, — будто спросонья, повторяла герла, — но она же ещё не готова!
— Это мелочи. Ведь правда? — Повернулась к Ольге Фёдоровне Татьяна.
Забрали, понятно, и «Казанскую», и «Троицу», и «Розу». Фёдоровны взвалили на себя ковёр полегче, Антон взял остальные. И все очень скоро ушли.
Герла долго смотрела на стоптанные и запылившиеся половики, на огромную дыру в пространстве мастерской, которую вдруг и сейчас заполнить нельзя было.
— Это ничего… Пряжа недорогая… ещё ковров наплету…
Затем сделала несколько шагов по направлению к двери, будто намереваясь вполне постичь, как же похитители прошли из мастерской к двери. И остановилась, глядя на осевшее в яркий половик облачко песка посреди прихожей:
— Уже стирать надо…
Устроившись в приходском микроавтобусе, Татьяна Фёдоровна заметила:
— Интересно, она хоть поняла, что мы к ней приходили, или всё сочтёт за галлюцинации? Это я к тому… ну помнишь, как было… станет спрашивать.
Ольга Фёдоровна сделала какой-то охранительный жест.
— Думаю, не станет. Она же умница девочка.
*
«В книге правил церковных написано, что самоубийцу можно отпевать в том случае, если он лишил себя жизни в виду растления. Но это ведь если есть угроза. А если её нет? Есть святые самоубийцы. Как те мученицы, мать с дочерьми, которые утопились. Но, Господи, ты знаешь, сколькие претерпели растление, и остались живы! Особенно дети, жертвы насилия. Теперь вся жизнь их как бы напоминание о том, что было совершено над ними. Однако, если они молятся, верую, что молитвы их пред Тобою не менее, чем молитвы святых.
А если имеется в виду растление духовное? Если насильно сделают, например, эвтаназию? Тогда, наверно, можно отпевать. И самоубийцу в виду духовного растления тоже отпевать можно. Те мученицы заботились о теле, а тут — о душе. Так мне думается. Ведь сейчас почти все такие. Не потому что не видят смысла в жизни, это только фраза такая. Потому что чувствуют нечто ужасное грядущее и бегут от него. Пока что есть поэзия, живопись, промыслы народные. Это лечит. Это Сам Господь подаёт. Работай и молись; это я знаю. Но вот если вдруг, как нынче…»
*
День складывался пронзительно. В супермаркете в корзину к герле залез какой-то весёлый браток со шрамом во весь затылок, как потом герла разглядела. И ведь взял-то аккуратно. Белый пластиковый пакетик, который отчего-то находился именно в той корзинке, которую взяла герла. Подруга братка, высокая, с блондинистым конским хвостом, в брючках, смотрела несколько виновато. Лицо у неё было лошадиное: испитое, помятое. Да и укладывала она бутылки с пивом. На вид эта несчастная была ровесницей герлы. Но Герда, чистенькая, хоть и немного нелепая в своей почти детской опрятности, выглядела моложе.
*
«Интересно, какого года рождения? Меня ведь интересуют судьбы поколения. Как я, как Фёдоровны. От пятьдесят восьмого до шестьдесят пятого. Тысяча девятьсот. От кого-то я слышала или читала где-то, не помню, что в каждой семье в начале девяностых нашёлся один такой фрукт, такая личность, вот такого возраста… Дети Горбачёва… Да, почти в каждой семье, в каждой третьей — это точно. И вот, такая личность вовлекла всю свою семью в какую-то авантюру, из тех, что творились в таком количестве в девяностые. И за счёт денег ли, жилья ли, сил ли — может, даже за решётку кого-то… Вылезли, выучились, сумели, стали. Последние советские бабы и последние советские мужики. Вечно голодные, нелепые, изнасилованные собственным пороком; яркие и мощные, как пена, как спутниковый телеканал. Господи, что ты хочешь? жалеть ли их, миловать, терпеть ли от них до смерти, которая теперь кажется так хороша, так близка и так нужна? Что хочешь? Ведь у них дети, и эти дети уже дурны, и им скучно, они почти все бесноватые. О да, ради этих детей их родители ещё не одного погубят, как губили когда-то. Они рады уничтожать, потому что они уничтожены собственной силой, они уже сами себя прокляли, и потому их потомство не будет жить, строить, творить, любить… О бедные! Мне не то чтобы очень жаль. Но это зрелище, этот дикий ужас, это нечто худшее, чем варварство, это желание второго распятия при его невозможности… Как они так? Зачем? Слепы, унылы и беспомощны… Они ничего не могут!»
*
День открытия выставки был перенесён на воскресенье. Фёдоровны успели вполне подготовиться, и потому с самого четверга распивали в своей выставочной каморке чаи: налаживали отношения с соседями. «Казанская» висела сразу же напротив прилавка, в глубине, но так, что её было видно. Рядом, скромно и не очень крупно, помещалась цена ковра. «Троица», во всём изумрудном великолепии, видела справа, и на ней тоже значилась цена. «Роза» висела на левой. Юбки, кружева и крестильные рубахи помещались чуть ниже и на поставленных возле лавки кронштейнах. Всё было аккуратно и готово принять покупателей. Уже до открытия выставки Фёдоровны успели затариться постной пищей, попробовать кагор и мёд, а так же приобрести афонские сувениры. Словом, программа была выполнена.
Народу в первый день, как и предполагалось, было столько, что все проходы между лавками оказались забиты. Ни пройти, ни выйти, как в храме на престольный праздник. Однако до ковров всё же дело дошло. «Казанскую» и «Троицу» купили для покоев какого-то сибирского Владыки. Осталась «Роза».
*
Герла пришла к вечеру; сразу же, будто кто объяснил ей, куда надо идти, направилась, не замечая чужих локтей, к лавочке, где были ковры. Вид её был странным: как будто ещё не проснулась. Такие люди порой встречаются в пять-шесть часов утра. Они, пошатываясь, скользят, будто летят, как сомнамбулы, и их ведёт лишь одно простое желание: достичь вожделенного места покоя. Светлые глаза герлы смотрели по сторонам, но, кажется, мало что замечали. Движения были какие-то нарочитые, замедленные и слишком выразительные, будто она не знала, куда себя деть. Волосы под белой плетёной шапочкой лежали не более тщательно, но и не более беспорядочно, чем обычно. Однако заметно было, что герла причёску не закончила. Ранее она никогда не вышла бы на улицу без пучка на затылке. Эта домашность, какая-то лёгкая незаконченность всего облика, венчалась особенным выражением лица. Герла что-то шептала, двигала сухими и бескровными губами, а на лбу скопились незаметные до того морщины.
Она шла прямо к той лавке, где на покупателей смотрела одинокая «Роза». Но тут вот что произошло. Вдруг и прямо перед герлой возник отец Илия, в сопровождении двух своих хорошеньких внучек. Внучки, видимо, уже получили позволение на осмотр очередной лавочки и отошли в сторону. А герла прямо упёрлась в отца Илию. Подняла свои прозрачные глаза, поздоровалась.
— Батюшка!
Отец Илия наспех благословил герлу и порылся для чего-то в кармане.
— Вот, возьми, пятьдесят рублей. Купи мне пирогов. С капустой. Сладких не бери, мы их не едим. На все пятьдесят рублей возьми пирогов. И принеси мне. Принесёшь? Мы у кафешки будем. И ты с нами чаю напьёшься. Ела сегодня?
— Нет, — ответила герла.
— Пирогов мне принесёшь?
— Принесу. На все?
— Да.
Отец Илия как-то хотел преградить герле путь, направить её в другой проход, но не вышло. Герда уже увидела свою «Розу». И, зажав в кулаке купюру, двинулась прямо к ней. Остановилась, мешая движению, напротив лавочки, и замерла.
Продавщицей Фёдоровны поставили свою знакомую, человека внимательного, но на приходе неизвестного. Так что герлу как автора ковра не опознали. Фёдоровны, обе, едва лишь увидели знакомую сомнамбулическую фигуру, поспешили исчезнуть из поля зрения.
Итак, герла стояла и смотрела на «Розу».
— Что вам, матушка! — Бойко крикнула продавщица. Она сама несколько смутилась, настолько спокойно и необычно вела себя герла. — Проходите! Проход загородили. Если покупать, то спрашивайте.
— Покупать, — ответила герла, — «Розу». Я сама плела этот ковёр. Сколько он стоит у вас? У меня есть деньги.
Продавщица смутилась окончательно. И выкрикнула:
— Это дорого для вас… Это только Владыкам…
— Две, три тысячи? — Настаивала герла.
— Да отойдите вы, матушка, не пугайте людей! Вот привязалась!
— Это моя «Роза», — возмутилась, наконец, герла, — эта работа ещё не готова!
Однако сердце её не вынесло. По бледным щекам потекли слёзы, длинные и едкие.
— Сейчас охранника позову! — Обрадовалась продавщица.
Звать не надо было. Охранник подошёл к герле, взял за руку повыше локтя.
— Ну-ка, матушка, пойдём на воздух.
Если бы не отец Илия, который в то время велел внучкам идти к машине, герлу вывели бы вон, а там Бог знает, что могло случиться. Отец Илия подошёл к охраннику, что-то сказал, и сам взял герлу за руку.
— Ну, пирогов-то к чаю… Забыла, что ли? Не ела ведь ничего…
— Нет, — повторила герла. Затем, ещё раз оглянувшись на «Розу», сказала: — Да, пирогов. Хотела есть, но у меня не получается. И чаю. Несладкого. Без сахара.
Они пошли к лотку с пирогами, и отец Илия чувствовал, как с каждым шагом герла слабеет и уже почти висит на его плече.
— В Оптину пустынь две монашки из Шамордина приползли. В феврале. — Заговорила вдруг герла. — Просили: братцы, дайте нам хлебца. Монашек осмотрели врачи и нашли серьёзную стадию истощения, а также следы побоев. Не потому, что сёстры злые или игуменья плохая… Так получилось.
— Ну-ну, Бог с тобою, — утешал отец Илия, — Вон уже и лоток. Чай пить в машине будем. У нас в термосе чай, домашний, со смородиновым листом.
— Со смородиновым листом! — Эхом отозвалась герла. — А вы знаете, меня, кажется, все продавщицы в магазине побить хотят. За то, что я не накрашена. А я не умею краситься. Я для них не женщина и не покупатель… Хоть деньги у меня есть.
*
Как потом стало известно Дуняше, герлу поместили в психиатрическую клинику, но из хороших, с православным психологом. Она так и не оправилась полностью, так что жить одной ей уже нельзя было. Внучки отца Илии пытались найти родственников герлы, но бесполезно. Попытались звонить по телефонам, найденным в блокноте, лежавшем на кухонном столе. Здесь им повезло больше. Какой-то добрый человек на другом конце провода отозвался и приехал.
Когда Мария, старшая внучка, увидела приезжего, оторопела. Кажется, лучше и не звонить было. Приезжим оказался высокий, модно стриженный белокурый господин, довольно плотный. Бизнесмен из Казахстана. «Пропала теперь квартира, да и Вера тоже», — подумала Мария. Однако, увидев герлу, бизнесмен разволновался и сказал, что останется с нею. Что-то было в его обращении к безумной давнишнее и очень дружеское. Но герла его не узнала.
Теперь она целыми днями сидела на ковре в мастерской, в ярких гавайках и вельветовой рубахе, пыталась что-то плести, и порой даже удачно. Но чаще всего смеялась заливистым и ясным смехом, как никогда до того не смеялась. К вечеру она будто просыпалась, становилась под душ и после душа даже ела. От таблеток её рвало, и ничего из лекарств, кроме святой воды, она принимать не могла. Приезжий несколько раз вызывал священника на дом: причащать. Накануне причащения приходила ненадолго Маша, ближе к вечеру, и ставила кассету с правилом ко Святому Причащению. Услышав знакомые слова, герла становилась задумчивой и порой сидела всё время, пока правило читалось, возле магнитолы. Утром её поднимала сиделка, нанятая приезжим. Герла приступала к Тайнам с серьёзным лицом. Будто вот-вот что-то вспомнит. Но потом спала почти полдня. Та же сиделка, приходившая на два часа утром и на два часа вечером, ставила кассеты с утренним и вечерним правилом. Герла охотно слушала, но уже не так внимательно, порой даже начинала что-то напевать и плести из пёстрой пряжи. Однажды сказала сиделке, предлагавшей ей брусничный сок:
— Есть ещё Иисусова молитва. Это как кровавый пот.
Всю зиму герла просидела в квартире, но, кажется, даже и не заметила, что это так. Мастер, а бизнемсеном из Казахстана был он, поселился тут же, в другой комнате. Он договорился с семьёй, что пробудет в Москве до весны. И сам занялся, понятно, переоформлением квартиры на себя. Как и предполагала Мария.
Весной случилось вот что. Герда как-то узнавала, когда именно возвращался домой её новый жилец, Киса, как она его называла. Порой даже радовалась ему. Радость вызывала волнение: будто она вот-вот что-то важное вспомнит. Герда оживлялась, прихорашивалась, на свой манер, и шла встречать Кису. Порой они даже разговаривали, так, как будто ничего страшного с Гердой не случилось. Но такие минуты были редкими и короткими. Так дожили до Пасхи. Каждый вечер, в определённое время, жилец подъезжал к дому Герды, а она прихорашивалась, спешила к двери, услышав звук двигателя его «ауди».
С наступлением тепла Герда научилась открывать окно, чтобы крикнуть Кисе «привет!» до того, как он войдёт в квартиру. Она шла к окну какой-то особенной походкой, будто на самом деле вспомнила про Мастера, полёт и свои юные надежды, которые никогда не разрушатся. Иногда в её лице появлялась складка, старившая её, и тогда казалось, что это мать идёт встречать сына.
Однажды герла обеими руками распахнула окно, но с такой силой, что её вытолкнуло прочь из квартиры. Послышался только стук рам, какой-то последний, отчаянный, со слюдяным блеском. Затем вздрагивание креплений. И, наконец, смешанный с испуганно-восторженным оханьем почти неуловимый звук падения живого человеческого тела. Поймать не успели. Этаж был четвёртый.
Неизвестно как, но Мастер отыскал «Розу». И, говорят, этот ковёр до сих пор висит в его кабинете. Но о герле он никогда ни с кем не разговаривает.
Дуняша всё так же моет полы в храме и скоро заканчивает МГУ. Фёдоровны поделились с ней выручкой: полторы тысячи за организацию продажи ковров. Но вот об усопшей Вере Дуняша молится и довольно часто её вспоминает.