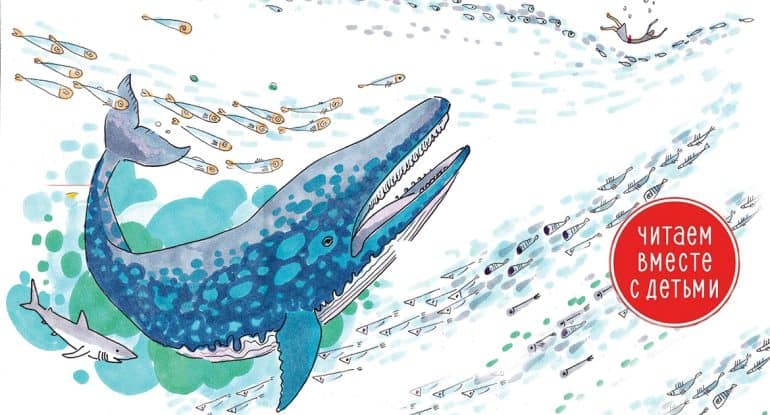Роман «Безбилетники» — история захватывающего, полного приключений путешествия в Крым двух друзей-музыкантов. Автор романа — постоянный сотрудник журнала «Фома» Юрий Курбатов. Подробную информацию о романе и авторе и полный список серий смотрите здесь.

«Какая странная компания, — Том шевелил в костре ветки. — дед-крестьянин, гербарист-философ с овчаркой, и два панка. Таким разным людям внизу, на равнине, собраться практически невозможно. А тут все друг другу — будто старые друзья. Та же простота и непосредственность, с которой дружат незнакомые дети в песочнице».
— Дядя Саша, а вы тут музыкантов не видали? — Спросил Монгол. — Они тут вроде концерт какой-то давать собирались.
— Так мы косим далеко отсюда. — дядя Саша махнул рукой на восток. — Наверху, на яйле. И где им тут играть? Разве здесь, на седловине. Тут хоть вода есть. Ну, может еще на Красной пещере, — она от трассы недалеко. Туда всякие буддисты-кришнаиты иногда наезжают. А наверх тащиться тяжело, и продукты нужны… Хотя постой. — Он хлопнул себя по лбу. — Пару дней назад на той стороне яйлы видал каких-то. Мы вечером назад ехали, — мимо нас компания шла. С гитарами шли, точно.
— А куда шли? — Оживился Том.
— Судя по направлению, — вроде на Караби, через Стол-гору. До Караби там просто делать нечего, если только не вниз, на Генеральское, и дальше к морю. А на Караби метеостанция, при ней что-то типа гостиницы, там можно комнату снять. И электричество есть, и вода привозная. Там и могли остановиться.
Он загреб картошку в угли, затем, сдвинув камни, поставил на них котелок с водой.
— Это они. — Уверенно сказал Монгол.
— Если точно не знаешь, куда пошли, то в горах искать бесполезно. — Отозвался Игорь. — Они могли и на Большие ворота пойти. Могли на ту сторону, на Пчелиное податься, если на Белогорск нужно. А могли просто кругаля сделать, по красивым местам. Тут же кругом красота, а люди — они же не в магазин идут, они любуются. Они могут за камень зайти, а ты мимо пройдешь, и не увидишь.
— А как долго до этой Караби идти? — Не унимался Монгол.
— Так вы и дороги не знаете? — Дядя Саша поднял брови. — А карта есть?
— Нету.
Дядя Саша нахмурился.
— А оно вам надо?
Том пожал плечами.
— Мы вас с утра до того края плато подкинуть можем. А там до вечера успеете. Ноги у вас молодые.
— А мы никуда не свалимся? — Том вспомнил заросшую травой щель, в которую не угодил лишь по чистой случайности.
— Если по тропам и дорогам, то проблем не будет. Хотя на Караби возможно всё.
— А что это за Караби такое?
— Это большое плато. Степь напоминает, только оно всё в ямах, в пещерах, в лунках. Корова, бывало, забредет в такую лунку, спустится на дно, где трава посочнее. И всё, нет коровы. Лежит на дне колодца.
— Зато новую пещеру открыла. — Усмехнулся Игорь.
— Еще там лошади дикие живут. — Продолжал дядя Саша. — Пасутся табунами, но близко к себе не подпускают... Да-а. Ну так вот. Перед Караби есть вершина Кара-Тау. Вы в любом случае мимо нее пойдете. Она над Караби нависает, как бортик у сковородки. И с нее уже метеостанцию видно. Главное — держаться направления, чтобы море всегда справа было. А компас есть?
— Нету.
— Ну вы даете! — рассердился старик, хлопнув себя по коленям. — Тогда лучше вообще не идти. Вы понимаете, куда собрались? Горы шуток не любят. В Крыму больше всего народу гибнет. Больше чем на Кавказе, на Алтае. А почему? Потому что на высокие горы идут люди подготовленные, со снаряжением. А у нас горы низкие, и все относятся к ним несерьезно. А сколько тому человеку надо? Три метра, чтобы шею свернуть. Горы могут так запутать, — только держись. Я тут все дороги знаю, а и со мной бывало. Или, там, погода. Сейчас курорт, через минуту — дождь, или еще чего доброго, снегопад. Что, погрустнели? Ну, это я так, инструктаж для порядку. Если ходить правильно, — дойдете быстро. В Лучистое можно за полдня смотаться.
— До Лучистого полдня? А мы со вчера идем.
— Если по низу, то тут совсем рядом. — Вставил Игорь. — А зачем вам эти музыканты?
— Одного знакомого ищем. Барабанщика. — Отозвался Том.
— Он что, с барабанами в горы пошел? — Не понял Игорь.
У костра захохотали.
— Тут, кстати, случай был. — Смеялся дядя Саша. — Фильм в горах снимали, про пионеров. Актеры бухали между съемками, и, как это часто бывает, в разгар пьянки выпивка кончилась. Так они двумя колоннами в Лучистое спустились, с барабанами. Все помятые, небритые, но в пионерских галстуках и пилотках. Впереди актер шагает, известный такой, с усами. Забыл фамилию. В руке горн, на рукаве — красная повязка с крестом. Врач ихний, значит. Затарились они водкой, и так же под барабанный бой в горы ушли. Так им старики салют отдавали, со слезами на глазах.
— Так и бродят до сих пор, с барабанами. — Засмеялся Игорь.
— Ну что? Завтра двинем? — Оживился Том.
— Куда? Пальцем в небо? — Монгола вдруг разобрали сомнения. — Идти еще день не пойми как, за компанией неизвестных музыкантов, веря в то, что среди них идет барабанщик без барабанов. Лажа какая-то.
— А что, назад? И ты сам пошел, я же не тащил. — Пожал плечами Том.
— Я думал, что горы — это… Как-то попроще. Что мы поднимемся на вершину, а они где-то там и сидят. Ну, или на склоне. А тут не вершина, а целая горная страна. Ищи ветра в поле. Жратвы у нас почти нет. Вода, опять-таки, неизвестно где. Это тут Игорь родник показал. А ты бы его так нашел? Отож.
Том промолчал. Он не разделял уныния друга. Ему все время казалось, что все — не зря, что в любом испытании есть какой-то смысл, что еще немного, и они наткнутся на этого неуловимого Индейца. Что он где-то совсем рядом, за горой, или за вон той рощицей, будто дразнит их своей неуловимостью, будто испытывает их выносливость.
— Я не то что категорически против. — Помолчав, смягчился Монгол. — Просто не ясно, сколько еще по горам шататься. Может лучше Серого на берегу обождать?
— В горах все видно, а перспективы нет. — Скаламбурил Игорь.
— Точно. А тут еще и ноги болят. — Откликнулся Монгол.
Ноги действительно горели. Болели ступни от острых камней, ныли колени, ныли плечи от сумки. Сейчас, на привале, это было не так заметно, но Том понимал, что назавтра, как и после любой тренировки, мышцы заболят куда сильнее.
— Но даже, предположим, мы их нашли. — Продолжал Монгол. — И даже этот барабанщик среди них. Но он нас вообще не знает. Одно дело — его дома застать, и, в случае чего, откланяться и отчалить. На берегу погода потеплее, ништяков много, есть где спрятаться. Другое — здесь. Они тебе скажут: пиплы, а тут, на Карабях, можно четкий номер снять, и пожрать неслабо. Но — только за бабки. А у нас бабок нет. Я, может, и не против добрым людям на хвост упасть, но тут же не набережная, не рынок. Они ж когда жратву в горы тащили, на нас не рассчитывали. Он пошлет нас подальше, и всё. А дома бы не послал. Вот я о чем.
— Плохо ты Лелика знаешь. Не такие у него друзья. — Уверенно сказал Том. — И вообще, мир не без добрых людей. Везде выживали. А вот то, что ноги болят — тут ты прав, даже как-то слишком.
— Не найдете. — Повторил свое Игорь.
— Согласен. — Подтвердил дядя Саша. — А и вправду, зачем вам Караби?! Оставайтесь! Завтра машина приедет, на покос мотнемся. Траву покосить хотите? Завтра как намантачим!
— Монгол, ты как?
Помрачневший совсем было Монгол вдруг расхохотался.
— Ну а чем же нам еще тут заниматься? Приехали человека искать, не нашли. И остались траву косить. Все логично.
— А мне нравится. — Сказал Том. — Мы же не спешим. Я за покос.
— Завтра дождь будет. — Снова cказал Игорь.
— А может и не будет. В горах всякое бывает, утром посмотрим. — Ответил дядя Саша. Ему явно не нравилась всезнающая игорева категоричность.
Наконец закипел-забурлил кипяток в котелке.
Они разлили воду по кружкам и банкам, набросали туда собранные травы.
— Уфф, душистый какой.
— Мята, чабрец, зверобой, ромашка, шиповник, лимонник, шалфей. — Не без гордости сказал Игорь. — Звучит как музыка, только для сбора поздновато.
К вечеру еще похолодало, но костер и чай не давали замерзнуть. С балки понесло сыростью. Вверху, почти над головой, бычился в наступающих сумерках крутой затылок Лысого Ивана.
— Вон она, Северная Демерджи. — Дядя Саша повернулся и кивнул на вершину, где торчали напоминающие локаторы железки. — Кажется, гора тебе, и всё. Но если рано утром, на восходе солнца в ясную погоду залезть во-он туда, к ретрансляторам, а Чатырдаг будет еще в тумане, то на нем можно увидеть редкое явление. Такой радужный круг, а в нем — как бы фигура человека. «Брокенский призрак» называется. Я всего два раза видел.
Он умолк, шумно втянув воздух ноздрями и слегка зажмурившись от удовольствия.
— Я горы люблю. Жить без них не могу, — продолжил он, помешивая чай. — Все, кто родились на равнине, до конца своих дней будут удивляться горам. Мы с женой как приехали сюда в 60-е, — так и остались тут, и ни разу не пожалели. Сказка.
Внезапным порывом ветра разметало жухлые буковые листья, закружило пепел над костром. Сырым холодом, будто из погреба, снова повеяло откуда-то снизу. И все стихло.
Лишь потрескивал костер, и в темнеющем бездонно-сиреневом небе гортанно хрипел ворон.
— У нас дома гор нет. Но тоже интересное случается, — неспешно сказал Монгол, многозначительно посмотрев на Тома. — Том не даст соврать. Местечко одно у нас в лесу, угол между двух рек. Мостов рядом нет, дорог нет. Короче, глухомань. Мы там весной с пацанами отдыхаем. Была там одна заброшенная дорога, от реки. Когда-то там песок намывали, и вывозили по этой дороге в город. Но это давно было, — теперь одни ржавые железки на берегу валяются. Дорога эта уже деревьями заросла, еле заметно. Как-то раз мы с пацанами там отдыхали. На третий день слышим: в чаще кабан визжит. Там вообще следов кабаньих полно, но живого еще ни разу не видели. Том такой говорит: пошли кабана зарежем. Мешок мяса будет. Пошли, говорю. Ну, взяли мы ножи, и пошли. Так, Том?
— Ножи у нас знатные были. — Подтвердил Том. — Охотничьи.
— Что ж вы, с ножами-то и на кабана? — Усмехнулся дядя Саша.
— Так понты карман не тянут. — Хохотнул Монгол. — Но это ж на третий день было. Третий день на природе — это уже совсем другой человек.
— Есть такое. — Засмеялся дядя Саша.
— Вначале, конечно, на понтах пошли. — Вставил Том. — Когда уже близко подобрались, тут реально страшно стало. Но назад же не пойдешь, это ж не по-пацански.
— А кабан уже где-то рядом верещит, будто режут. — Продолжал Монгол. — Мы идем медленно, на деревья смотрим, чтобы было куда, в случае чего, тикать. А лес, как назло, старый, — ветки высоко. Река недалеко, но там бурелом. Даже бежать некуда. А звук уже совсем рядом, за бугром. Ну, короче, высовываемся. А там… — Монгол глянул на Тома.
— А там…
— А там — лесник с бензопилой! Дерево пилит, а пила визжит так, будто кабана режут!
У костра снова захохотали.
— А вообще не отличить было. — Подтвердил Том. — Чистый кабан. Уууиии-ууиии!
— Но это не всё. — Продолжал Монгол. — Ну, поржали мы, конечно, что пилу с кабаном перепутали. Облегченно поржали, не скрою. И на обратном пути случайно вышли как раз на ту заброшенную дорогу. Она к полю ведет. До наших там крюк получался, зато идти полегче. И вот идем мы по ней, и вдруг слышим сзади, — разговор.
Монгол замолчал. Все слушали, затаив дыхание, лишь дядя Саша громко причмокивал чаем.
— Оборачиваемся, а сзади — мужик идет, а с ним — мальчик лет шести. Будто из ниоткуда появились, и за нами идут. От берега! Одеты чисто. Мужик — тот вообще в костюме: рубашка, галстук, ботиночки блестят. И это в такой глуши! Один вопрос в голове: откуда они идут? Да еще так вырядились. Тут же одна река в другую впадает, идти некуда, даже тропинок нет. Чаща вокруг, до ближайшего села — километров семь. Мы идем себе, прибалдели, конечно, но виду не подаем. И спросить вроде как неудобно. И тут они сами нас догоняют.
— Ребята, как отсюда выйти? — Мужик спрашивает.
— А вам куда?
— Мы в Федькино идем, на день рождения.
— Э-э, Федькино на другой стороне реки. Как же вы сюда попали? — Спрашиваем.
— Не знаю, — отвечает, — мы до Беседовки добрались, а там на Федькино через лес пошли, и заблудились.
— И Беседовка на другой стороне. Здесь вообще нет ни сёл, ни мостов. А ближайший мост — он подвесной, на турбазе, километрах в трех отсюда. Может, вы там речку перешли?
— Мы вообще речку не переходили! — говорит. — И на турбазе не были.
Пошли мы назад. Отец заботливый такой, все время что-то сыну рассказывает, показывает. На просеке пацан на змею наступил, у нас там гадюк полно. А отец ему спокойно так: «сынок, осторожнее!» Хороший папка, короче… Ну да ладно. Вывели мы их нашими тропами на турбазу, довели почти до Федькино, и там распрощались. Мужик этот на радостях нам денег на сигареты дал. Так, Том? Я ничего не сбрехал?
— Всё так и было. — Подтвердил Том.
— Вот такая реальная история. — Закончил Монгол. — Портал там какой-то на ту сторону, или что. Не знаю.
— Ты про Существо расскажи. — Монгол толкнул Тома в бок.
— Та не. Та ну, зачем? — Помрачнел Том.
— Думаешь, не поверят?
— Не в этом дело.
— Расскажи, хватит ломаться. — Сказал Монгол.
— Я не ломаюсь. Просто не люблю эту историю. И не вере дело. Стрёмная она какая-то. Непонятная. После нее я чувствую себя идиотом.
— Верить — то уже наше дело. А твое рассказывать. — Рассудил дядя Саша.
— Харош, выкладывай. — Поддержал Игорь.
— Ладно. — Том помолчал. — Монгол уже говорил про наше место в лесу. Это было там же, только не в лесу, а рядом, на поле. Однажды пошли мы туда втроем. Я, Серый, и еще один приятель, Стас. Собирались ночевать, но одного не дождались. Он должен был подъехать на мопеде, жратву привезти. День прошел, уже вечереет, а его нет. Ну, думаем, если встретим — то навстречу, а если нет, то сидеть нет смысла. Ни еды у нас, ни теплой одежды на ночь. Короче, пошли мы назад. Вышли из леса, пересекли поле, речку перешли по мостику, на холмик поднялись. Тут Стас вдруг поворачивается, и мычит что-то нечленораздельное. Только воздух хватает, и пальцем в лес тычет. Мы повернулись, смотрим: сзади, через поле, где мы шли, метрах в трехстах идет существо, высотой метра четыре. Идет как человек, ровно и прямо. Шагает на двух ногах, и шаги такие огромные, метра по два. Идет быстро, так решительно, пересекая поле недалеко от нашей полянки. Мы стоим в ступоре, молчим и смотрим. Я как-то рационально это объяснить пытаюсь. На ходулях? Невозможно. Это весна: поле вспахано. Его и без ходуль тяжело пройти. Да и какие в лесу ходули? У нас-то их и в городе никогда не было. А тут он прет по полю, еще и с такой скоростью. Кто-то несет кого-то? Тоже не вариант. Если бы кто-то сидел на плечах у другого, то был бы гораздо ниже. Для такой высоты их должно быть трое, а то и четверо. Слишком высокое оно было, и шло так легко, бодро, будто спешило. Такие вот мысли в тот момент пролетели в моей голове. И еще одна была: если оно вдруг повернет к нам, то с такой скоростью догонит нас через минуту. Как бы мы ни убегали.
— И что потом? — Спросил Игорь.
— А потом оно просто в землю ушло. Прямо в поле, как в подпол, по ступенькам.
— А вы?
— А мы постояли, и домой пошли. Всю дорогу молчали: как-то мутно было после этого на душе. Прибило, короче. Говорить тяжело было, будто мешало что-то. И что говорить? Никто не поверит. Все НЛО видят, о них в газетах пишут каждый день, а мы — вот такое. А недавно вспоминали об этом. И вдруг выяснилось, что все помним его разного цвета. Серый говорит, что он был белый, Стас, — что он серый был, а я вот точно помню, что он был совсем темный. Такая вот странная «разница в показаниях». Может это уже игра мозга. Ну, как бы от стресса. Такая вот история.
У костра повисла тишина. Костер немного прогорел, из-за чего поляна будто уменьшилась. Все непроизвольно вздрогнули, когда неподалеку протяжно взвыла какая-то птица.
— А приятель-то ваш пришел? — Наконец спросил дядя Саша.
— Да, приехал вечером. У него тогда мопед сломался, он чинил. Мало того, что приехал, они там вдвоем приехали, и всю ночь на поляне гульбанили, рядом с тем полем. С музыкой, еще за девками в село ездили. Он потом говорил: чего не дождались? А я ему: да мы больше туда ни ногой!
— И что, больше не ходили?
— Ходили, конечно, года через три. Уж очень красиво там.
— Нечисть какая-то. Эх, жаль фотоаппарата не было. — Сказал дядя Саша.
— Жаль. — Ответил Том.
— А может место такое. Аномалия. — добавил Монгол. — Мужик же с ребенком на другой берег тоже как-то попал.
— А может от ЛЭП. — Том пожал плечами. — Там рядом, на просеке, мачты стоят. Я не знаю, короче. Дядя Саша, дайте папироску.
Он уже обратил внимание, что сигареты у деда Саши самодельные.
Старик неспешно, будто нехотя, потянулся за пазуху, сказал нараспев:
— Из старых запасов табачок. Сейчас такого нет. Только в одном месте в Крыму выращивали: в Генеральском.
— Табак по Крыму везде выращивали. — Возразил Игорь.
— Ботаник, а не знаешь. То сигарный рос, а это сигаретный. «Дубек» называется. Весь в Штаты шел, за валюту. Из него потом «Мальборо» делали.
— Я не ботаник, я гербарист. — Поправил Игорь.
— Та то не важно. — Срезал дядя Саша. — Я тут постарше вас, я лучше знаю. Важно то, что в Генеральском особый климат: там ущелье такое, Хап-Хал называется. — «Волчья пасть», по-русски. Со стороны моря оно открыто, а со стороны гор — тупик. И там все время стоит теплая пробка воздуха. Самое оно для хорошего табака. Да что теперь говорить? Всё порушили, даже табака нет.
Том понюхал самокрутку, размял в пальцах. Запах табака совсем выветрился.
— Сколько всего построили, столько придумали, а всё пошло прахом. — Продолжал дядя Саша. — Почему? Советская власть всем добра хотела. Воспитывала человека, стремилась к лучшему. А человек мало того что не воспитался, да еще и страну развалил. Выходит, дело не в воспитании.
— А я думаю, что страна надорвалась. — Сказал Игорь.
— Это как?
— Вот почему капитализм победил? Потому что он туп и низок. Это животное начало человечества. Это как желание человека обезопасить себя, запастись едой, придумать способ, как самому стать жирнее и сильнее. Это всё глубоко животные инстинкты. Разрешение на ношение оружия — типичное проявление капитализма. В нем есть зачатки справедливости, но они еще на уровне рода, семьи. Это очень низкий, примитивный уровень, и поэтому к нему всегда легко скатиться. Я здесь ничего нового не придумал, просто Маркс видел смену формаций в историческом развитии, а я развития не вижу, я вижу все эти формации в виде пирамиды. Иногда, в определенные периоды человечество мобилизуется, и залазит повыше, где мораль почище. Есть у него, у человечества, такое стремление — становиться лучше. А иногда оно скатывается, как мы, почти к феодализму. Но это не значит, что история пошла вспять. Мы просто временно сползли с более высокой ступени социализма. Социализм — это уже видовая справедливость: это тонкий баланс интересов, защита слабых, справедливое распределение благ. Социализм — дитя не корысти, но веры: он заставляет человека лезть выше, преодолевать инстинкты. Коммунизм еще более самоотвержен, он где-то почти под облаками идеализма. Поэтому всё это развитие, эти призывы стать лучше — это не движение вперед, это стремление вверх, попытка пересилить притяжение, победить в себе животное. Беда в том, что инстинкты — они непобедимы до конца. По крайней мере в ближайшие тысячи лет. Кто-то, конечно, может жить как Павка Корчагин, но большинству людей это не нужно. Нужен либо личностный надрыв изнутри, либо жесткий диктат снаружи. А поскольку не все готовы надрываться, то коммунизм обречен стать для масс страшной, кровавой диктатурой: большинство людей готово оторваться от своего животного начала только под угрозой смерти. Капитализм в этом не нуждается. Капитализм живуч, потому что он не упрекает твое животное начало, а мирится с ним, лишь немного ограничивая своего зверя. Жестокость коммунизма — она массовая, жертвенная, и демонстративная, поскольку она всегда во имя чего-то. Жестокость капитализма — она примитивная, бытовая. Жертв капитала может быть куда больше, чем жертв коммунизма, но никто не увидит в этом трагедии. Все эти разорившиеся банкиры, неудачники-самоубийцы, наркоманы и гангстеры растворяются в бытовой статистике смерти. В этой трагедии нет пафоса, нет надрыва. В этом-то и загвоздка. Поэтому в случае чего капстрой организовывается быстро и легко, как торговцы на рынке. Как ткани тела после небольшого ушиба. А при развале социализма или коммунизма обществу выше падать, и поэтому сложнее переходить к более примитивным формам выживания. Это уже как перелом костей, или травма головного мозга.
— Типа рожденный ползать упасть не может? — Усмехнулся Том.
— Типа того.
— То есть, чтобы не падать, — лучше не вставать? — Подытожил дядя Саша.
— Так я не постулирую, я констатирую. — Отозвался Игорь.
Некоторое время все молчали, переваривая сказанное.
Наконец дядя Саша подытожил:
— Умно, но сухо.
— Что сухо? — Не понял Игорь.
— Сухо балакаем. — Захохотал дядя Саша, косясь на стоявшую у дерева бутылку спирта. — На пустой желудок с такой философией и до язвы недалеко.
— А и вправду, давайте накатим! — Сказал Монгол.
Все сразу оживились. Том вытащил из сумки бутылку, разлил по кружкам и банкам, разбавив его родниковой водой.
— Картошка еще сыровата. Зато мята — отличный закусон, — вставил Игорь. — Успокоительная травка, хотя, конечно, не полынь. Вот если полынь настаивать на водке, — абсент получится. Обалденная вещь. Совсем по-другому на мозг действует. Я бы сказал, отрезвляюще. Рекомендую.
Дядя Саша выпил первым, крякнул. Заговорил поспешно, пока другие закусывали, — старая застольная хитрость.
— Все это, Игорек, — холодные игрушки ума. Умно конечно звучит, стройно, но ничего эта философия человеку не дает! Так, фантастика одна. Может сейчас с Ивана камень скатится, и будь здоров.
— Нет, дядя Саша, вы не правы. Может это всё и чушь, но многие фантасты толкали науку, — отвечал Игорь, причмокивая мятой.
Дядя Саша махнул рукой, и, отойдя к лесу, лег под ближайшей сосенкой на мягкий многолетний ковер из иголок.
— Прильну, с вашего позволения, к корням. К истокам, — Усмехнулся он, и закурив, выпустил вверх, как паровоз, столб дыма.
В темноте было видно его чубатое, освещенное сполохами костра, побагровевшее лицо.
— Фантасты. Досталось мне от этих фантастов. — Сказал он куда-то в небо. — Я на Байконуре служил. Однажды еду на своем МШ-10 на 95-ю площадку. В степи — ветерок, суслики торчат. Хорошо, одним словом. Вдруг руль отказывает. Перетерлась трубка гидроусилителя руля, но это я уже потом узнал. Я руль кручу двумя руками, и вывернуть не могу. Гидравлика отказала, а мне еще 90 кэмэ пилить. А сзади, как назло, кортеж: на Вторую площадку космонавта везут. Спереди — шушарик с автоматчиками. У каждого — по три рожка, по две лимонки. Следом спецавтобус с этим гребаным, прах его побери, космонавтом. За ним — еще два шушарика, затем ВАИ, потом ГАИ. А у меня даже пистолета нет. Громкоговоритель: принять вправо и остановиться. А я не могу. Это — Байконур, мля. Это всё, понимаете? На Байконуре не шутят. Тут космос рядом! Останавливаться не будут. Изрешетят в хлам, и поминай как звали. Если везучий, то — погиб при исполнении. Что им до меня? Я козявка мелкая. А там — космонавт, ради которого они всю эту херь вокруг понастроили. Мне повторяют. Слышу, уже затворы щелкают. Дорога узкая! Я по тормозам: выскочил, руки кверху. Жизнь моя короткая, как пташка малая, перед глазами пролетела. Как же тогда мне жить захотелось! А они не тронули меня. Просто объехали, и всё. А я еще долго стоял там, в степи, с поднятыми руками, обернуться боялся. Страшно. Чуть не обгадился. Кто я такой в этом мире? Пыль. Но зато я тогда многое понял. И о жизни, и о космосе. Всего перевернуло.
— Давай, дед, делись. — Сказал Монгол.
Дядя Саша повернулся, закашлялся, тяжело сплюнул.
— Я вас постарше, хотя конечно для молодежи это не важно. Самое дорогое, о чем говорить, чем дорожить… — оно всегда просто и понятно. Оно рядом. Это как жену обнять, другу помочь. Или ребенка поцеловать. Думать, как любовь сохранить: свою и родных. Как простить. Как вырастить что-нибудь в саду, создать, родить. Оно вроде всё просто на словах, но это так кажется. Я вот с женой тридцать лет живу, и каждый день — как последний. Иной раз убить бы, а иной раз до смерти люблю, аж сердце болит. Все вокруг: любовь, любовь… А что это такое? Вот что?
— Нету никакой любви. Есть инстинкт размножения. — Сказал Игорь. — Иначе чем объяснить то, что единственная избранница живет, как правило, не на другом конце земли, а где-то в соседнем доме. Значит она легко заменяема. Инстинкт и симпатия.
— Хератия. — Передразнил дядя Саша. — Ничего ты не понимаешь в любви. Знаешь, как я со своей женой познакомился?
— Как? — Монгол выковыривал из костра картофелину.
Дядя Саша причмокнул.
— Я как на Байконуре служил… Еду, смотрю — на Веге сайгаки. Голов сто! Я начальнику штаба сказал. Выдали нам оружие, пулеметы. Ну, поехали, настреляли. Обдирали потом всю ночь. На следующий день двойные порции всем, дополнительный паек. Командир мне хотел ефрейтора дать, а я ему: «за что вы меня так не любите? Дайте лучше отпуск». Он и согласился. А я сказал сам себе: кого увижу первой, — на той и женюсь. И женился. Какая тут любовь? А с другой стороны, — я же без нее не могу. Если посмотреть, то она же моих детей вырастила. И меня столько лет терпит. А все вокруг: любовь-любовь. Тьфу. Любовь — она вот такая, как жизнь. Без всего этого.
— Похоже картошечка готова. — Сказал Монгол, перебрасывая одну из руки в руку.
Вооружившись палками, все стали выкатывать из костра пепельно-серые картофелины. Том снова разлил спирт.
— Я вас постарше, хотя вам оно… — продолжал дядя Саша. — Потом поймете. Потом человек начинает всё мерять смертью. Он внутренне готовится. А когда она приходит, то он вдруг понимает, что не готов. Почему? Потому что ему больше никто не поможет. Не спасет. Всё, приехали, выходим. Ни карты, ни компаса. Человек уходит туда всегда в одиночку. А тут уже привык к жизни. Купается в ней, кокон плетет. Привык к шуму, к друзьям, ко всем этим предметам. А за этим шумом не слышно вечного. Но если на секунду прислушаться…
— Дядя Саша, подползайте.
Старик затянулся, снова сплюнул прилипший к языку табак, явно пытаясь подобрать слова. Затем махнул рукой, снова подполз к огню. Поджав ноги, снял свои видавшие виды разбитые ботинки, и сунул ступни в самое пламя костра.
— …Всё вокруг — это миг, пыль. В один момент всего этого не станет. Не станет ведь? Не станет! И каждый окажется тем, чем сюда и прибыл. Маленьким, беззащитным ребенком. Без всех этих соплей и масок… Меня любили! Я отмечен наградами! Сам Иван Иваныч меня уважает! Всё! Ничего не останется! Страшно? Да! А что тогда с вечностью делать?
— А что? — эхом отозвался Монгол, хотя, конечно, его больше интересовала картошка.
— Я и сам не знаю. Какие-то убеждения нужны. Идеалы. Что-то внутри такое, важное. Когда не убил никого, не обокрал. Тогда не так страшно. Страшно, но не так. И не в том дело, что там тебе зачтется. А в том, что ты подлецом отсюда не ушел. Не испортил здесь ничего, не сломал. Бережно тут ходил, как по музею. А что там дальше, — не важно. Все остальное, — красивые слова. — Он выстрелил щелбаном бычок в костер.
Все как-то незаметно, но быстро захмелели. Разговор тлел, обрывался и вновь начинался, когда кто-то подбрасывал в него сухое брёвнышко новой, незатронутой темы.
— Пойду прогуляюсь. — Том стрельнул у дяди Саши самокрутку, и пошел по тропинке, туда, где спящим медведем чернел покатый бок Демерджи. За ним увязался Алтай. Пес держал дистанцию, делая вид, что бежит сам по себе.
Том любил не столько одиночество, сколько тишину, но тут ему вдруг сильно захотелось побыть одному, обдумать, пережить все, что с ним произошло за последние две недели.
Тропинка взбиралась вверх, мимо зарослей шиповника, и терялась в сумерках. Стараясь смотреть только под ноги, чтобы не покатиться вниз по склону, он не заметил, как снова оказался на плоскогорье. Неподалеку загадочно белела целая рощица истерзанных ветром березок. Одни, прижатые к густой траве, будто ползли по земле, не в силах оторвать от нее свои стволы, и лишь выбрасывая вверх тощие слабенькие побеги. Другие смело росли вверх, но потом, будто раздумав, поворачивали вниз, и, делая кольцо, снова устремлялись вверх. У некоторых ствол был тоньше веток, другие напоминали шлагбаумы, третьи, извиваясь, застыли в кривом хороводе, обнимая друг друга. Их жуткие искореженные силуэты будто кричали, каково им в этих, открытых горному ветру, местах.
— А тут сурово бывает. — Пробормотал он, поднял голову, и застыл с немым восторгом. Над ним распахнулась тихая, полная звезд, молчаливая бездна. Звезд было столько, что кружилась голова. Знакомые с детства созвездия вдруг поблекли, растворились в мириадах новых, невиданных доселе светил. Будто живые, они поблескивали своим холодным бриллиантовым светом недостижимого и необъятного сокровища. Лишь над морем огромная сумеречная туча наотмашь растеклась брызгами по темно-лиловому небу.
Чатырдаг слегка покосился на бок; вчерашнего ночного облака на нем не было. Том вдруг подумал, что, уставшее от дневной беготни, оно дремало уже на какой-нибудь вершине Кавказа, или даже Гималаев.
Его вновь накрыло то странное чувство отчужденности, которое он чувствовал когда-то в больнице. Будто впервые он увидел весь этот мир, в который его неведомой, непонятой силой швырнуло откуда-то извне, из чего-то мягкого и теплого. Где он был раньше, до этого мира, — холодного, как родниковая вода? Он не помнил. Его память с трудом находила в себе обрывки воспоминаний, но все они были будто не его, словно чужая жизнь вспоминалась ему. Яркая, но бессмысленная череда событий, наполненная звоном и шумом, но не имеющая внутренней глубины. Его ли это жизнь? Но где, и о чем была та, настоящая, которую он вдруг так ярко осязал, почувствовал в тот миг? Или, может быть, он не помнит ее лишь потому, что ее еще не было? Может быть, ее нужно начать? Но как начать ее, глубокую, полную, осмысленную? Кто ему подскажет, куда идти вот этими самыми ногами, в какую сторону ступать по новому пути? Что это за люди вокруг? Нелепый случай, поворот судьбы? Зачем он здесь? Далеко от дома, в горах, где никогда не был, с какими-то незнакомыми людьми, открывает рот, смеется, говорит какие-то слова. Чем вся эта череда нелепиц отличается от сна? Чем сон отличается от жизни?
Может он — отбившийся от своих инопланетянин, когда-то высадившийся на этой странной, больной человечеством планете, и забывший свою миссию. И лишь сильный удар по голове смог слегка приоткрыть завесу памяти, намекнуть на то, что с ним было что-то еще, что-то очень важное.
Те, кто бросил его здесь, забыли о нем. А эти — такие же одинокие и такие же потерянные. Сидят, жмутся в прохладе ночи к пламени. Словно муравьи, постукивают усиками друг друга, пытаются понять, кто они и зачем. Сверяют часы и ощущения. Мелькают на соснах их тени у костра, машут крыльями, подобно летучим мышам. Путники на окраине планеты, бесстрашно несущейся в иссиня-черной, полной серебряных звезд космической бездне. Они собрались в поисках истины, у каждого есть часть карты Вселенной, которую он почувствовал, постиг; и они пытаются сложить ее осколки вместе, так же не зная, кто они, зачем, в чем смысл их существования. Они спорят, к одним теориям прибавляя новые, каждая из которых вроде ухватывает суть, но со временем истина линяет, как старая газета, превращается в правду… Они — как первоклашки, к которым зашел учитель старших классов, написал звездным мелом на небесной доске сложное логарифмическое уравнение, да и ушел, позабыв об ответе. И вот они с гомоном тыкают в доску своими пальчиками, спорят, пытаясь понять, расшифровать неизвестные знаки, непонятые письмена. А потом звенит звонок, и они выходят из класса в бездну вечности, так и не узнав ответа...
И еще — Светка. Это странное, навсегда потерянное им существо было тоже из другого мира. Из мира, где время текло по-иному. Где они хорошо знали друг друга, были похожи, понимали с полуслова, с одной черточки. Два одинаковых «я» в этом странном лабиринте — это было совсем другое дело. Его можно обжить, свить где-то в его в укромном тупике гнездо, оставив поиск выхода на потом. Так и было! Они жили вместе явно не одно столетие, иначе бы не было той боли в душе, той раны. А потом... Откуда этот черный холодный мрак?
— This is the end, beautiful friend!Это конец, мой прекрасный друг! — цитата из песни The end группы The Doors. — Неожиданно протянул он.
Мир будто остановился. Том долго стоял, запрокинув голову, смотрел на звезды и ждал ответа. Ему казалось, что сейчас вот-вот случится что-то важное. Что небо, глядящее на него своим черным зрачком, распахнется всеми своими несметными тайнами, и он поймет всё. И станет счастливым.
Но ничего не произошло. Лишь немного заныла шея, а где-то рядом в темноте, громко щелкнув зубами, зевнул Алтай. Реальность медленно, но неотвратимо становилась своей. Вернулось прошлое, проникло в память, поселилось там. Как поспешно накинутое холодное пальто, нагревшись, становится своим, неотделимым от плоти, незаметным.
— Во накрыло. — Прошептал Том. — Ну что, пошли, собака?
И они побежали вниз, по склону.
— О, вернулся. — Дядя Саша, лежа под деревом, открывал банку тушенки. — На кого ты нас покинул, кормилец? Ты же на разливе.
— Сейчас все исправим. — Том вновь плеснул спирт по кружкам.
Алтай, учуяв мясо, метнулся к старику, радостно виляя хвостом.
— Не укусит? — Дядя Саша прикрыл рукой банку.
— Алтай! Что такое? А-ну место!
Пес, скульнув, нехотя вернулся к хозяину.
— Я помню из школы, был какой-то философ греческий. — Говорил Монгол. — Все писал там что-то, думал, а ему варвары башку снесли, и всё. И нет философа. А все потому что либо валить ему нужно было, либо воевать учиться. Мы вот сидим тут, рассуждаем о том, о сем. А завтра завоюют нас китайцы, отберут землю, и все наши разговоры — так... Грязь в канаве.
— Ага, Архимед. Чертежи свои защищал. — Отвечал Игорь. — а итог? Ни его, ни чертежей. Можно было бы поступить по-другому. Если ты слабее и не можешь сопротивляться силе — встройся в нее. Женись на китаянке. Ничего страшного в этом нет. Просто твой сын будет говорить, что его предки построили Великую китайскую стену, а также первыми полетели в космос. Великая дружба народов в отдельно взятой семье.
— Егор, подай хлеба. — Дядя Саша хрипло закашлялся.
— Ну сами посудите. — Продолжал Игорь. — У нас в генах кого только нет. Русские, татары, поляки, немцы. Заметьте, внутри человека разные национальности не воюют. Или вот, взять негров и индейцев. Первые отправились из Африки в рабство, смирились, но выжили, и теперь благополучно живут в США, и даже права качают. А вторые гордо и красиво отказались работать на белых. Это было выше их достоинства. И что? Теперь жалкие остатки великих племен веселят своих бывших колонизаторов на балаганах. Смирение негров спасло их, а гордость индейцев погубила. Вот тебе и рабство. Посмотрите на растения. Они не кричат, не стонут. Они спокойно делают свое дело, тихо прорастая там, где можно прорасти. Без лишних слов.
— Логично, — наконец, сказал Том. — Но ведь сильный не считается со слабым. Сильный считается с равным себе. Только тогда он договаривается. А если тебя победил народ, у которого — запрет на смешанные браки? Если в его схеме будущего для тебя нет места. Что тогда? А главное то, что не ты, а за тебя решают, убить тебя или помиловать. Подстричь твою траву, или перепахать, залить асфальтом. Разве такого не было? Сплошь и рядом в истории, только из них уже не ответит никто. И если твоему роду грозит несколько поколений быть бесправным рабом, и при этом ты не знаешь, — может их, твоих потомков, в расход пустят, как индейцев? А неграм просто повезло жить в эпоху хоть и диковатую, но уже не варварскую. Да и то, сколько миллионов их утопло, померло с голоду? Молчит океан, молчит земля. Сила — вот единственный способ сохраниться. Хотя, на первый взгляд, идея отменить границы — она хорошая.
— Жратва! — Дядя Саша разложил на своем мешке несколько кусков хлеба с намазанной на них тушенкой.
— Дядя Саша, а вы что думаете? — Спросил Монгол, уважительно глядя на бутерброды.
— А что тут думать? За меня горы скажут. — дядя Саша повернулся на бок. Огонек сигареты осветил его морщинистое лицо.
— Я тут немного постарше. Я вам скажу, хотя вы, может, и не поймете. Это Лысый Иван. На нем полвека назад сидели такие же пацаны, как вы, и херачили внизу немцев на трассе. А когда те шли на них облавой, — они минировали вот эти тропы, уходили этими самыми балками. Вон туда, через перевал на Роман-Кош, или туда, через Кудрявую Марью на Долгоруковскую. А оттуда на восток, в пещеры Караби и дальше. Прятались в щелях, в скалах. Жили под камнями, в норах, в ущельях. Мы привыкли к памятникам, наградам, к фильмам. А каково им было? Здесь же леса маленькие, болот нет. Всё простреливается, всё окружить можно. Не то, что в Белоруссии: отступил в топи, передохнул. И это не турпоход на недельку, чтобы и песни под гитару, и жратвы полон рот. Это оккупация! Война с неизвестным концом, ведь вокруг враг, и он сильнее! А в горы уходили целыми семьями, потому что и детей убивали. Вот семья лесоруба, или, там, лесника. Он все дороги знает. Если семью в лес не увел, — ее обязательно расстреляют. Зачем? Чтобы лесник своих пожалел, из лесу вышел. Чтобы тропы показал, где партизаны. Про пещеры рассказал, про ущелья, тайные источники, про укромные места. Окружить помог. А ведь жалко же семью. Твои же! Твои дети, внуки! А выбор? Предать таких же, как ты, своих ребят? Или родных потерять? Поэтому уходили семьями. А кто не успевал семью спрятать, — знали, что ее ждет. И — все равно уходили. Ради сопротивления… Горы всё знают. Ветер, дождь, снег. Бежит молодая мать, держит на руках младенца. И — никуда не деться, ни в один поселок не зайти. Зайдет подальше в чащу, выкопает ребенку ямку в земле, чтобы не дуло. Листвой присыпет, чтобы потеплее, веточкой прикроет, чтобы не разметало, а тут — немцы. И опять нужно идти, все дальше и дальше. У детей обуви давно нет, все стоптано: идут в обмотках. Они плачут, а плакать нельзя. Их берут на руки, привязывают к спинам, несут этих несчастных детей по лесам, от смерти. Об этом не говорят, потому что нет тут картинки. То ли дело — таран, самоподрыв, смерть на амбразуре! Тут в кино не покажешь. Тут пытка, растянутая на годы. А люди выбирали именно такую жизнь. Звериную, но жизнь, потому что не было бы им никакой жизни при немцах. Всех убивали, угоняли, отправляли в лагеря. И не получили бы немцы на орехи, если бы не было здесь таких бесстрашных ребят. А не было бы их — не было бы и вас. И скажи мне, Игорь, что они были не правы? Да я тебе морду набью!
— Не, мордобоя не надо. — Сказал Том.
— Не парься, не набьет. — Шепнул ему Монгол. — У него собака.
— Дядь Саша, та все хорошо. Дайте лучше самокрутку.
Дядя Саша долго соображал, достав было свой портсигар, но потом снова сунул его в карман.
— И вообще, — продолжал он, — я не уверен, что кто-то из них женился бы на немке. Врага презирали. Дух был другой у времени. Или у народа, я уж не знаю, как это сказать. Самосознание, что ли. И Сталин тут ни при чем. Без Сталина то же самое было бы. Грызли бы зубами. Сейчас этого нет. Есть вот такие игорьки, им все равно. Зато на Перевале какой-то ублюдок с памятника бронзовые доски посрывал. Вот так и разменяли свою память… На цветмет.
Все молчали, разметая остатки еды. Картошка действительно была вкусная.
— Да я и не настаиваю. — Примирительно сказал Игорь и пьяно улыбнулся, вытирая черный от картошки рот. — У каждого своя правда.
— Не, вот это ты не прав. — Снова горячился дядя Саша. — Знаю я эту тему. У всех своя правда, все чуть-чуть виноваты, по обе стороны — герои. Нет никаких понятий, все размыто.
— Да не злись ты, дядь Саш. Не торкнуло его просто. — Монгол размахивал окурком. — Это не объяснишь. Меня вот торкнуло. А его — нет. Том, вон, — свидетель. Попросили нас на день Победы выступить перед ветеранами в местном госпитале. Концерт пообещали. Дрим, вокалист наш, обрадовался страшно, думал что всю нашу программу откатаем. Потом что-то поменялось, и организаторы сократили наше выступление до трех песен. А потом вообще говорят: много конкурсов, стихов полно, так что вы там одну песенку спойте, и всё. Дрим обиделся, и решил им не свою, а чужую зарядить. Там, короче, старик-инвалид сбегает из дома престарелых, а его санитары догоняют, и забивают ногами. Жесткая песня, короче. Вышли мы, как на расстрел. Смотрим: стариков полный зал. Сидят тихо, покашливают. Ну, думаем, в последний раз выступаем. После такой песни нас в бурсе точно не оставят. Ну, и врубили.
Спели мы, стоим, смотрим, — такая тишина в зале. И вдруг — как захлопают. Овация! Сидят деды, бабки старые смирно, хлопают, у многих слезы на глазах. И тут до меня дошло. Они и слов-то наверное не поняли, там не звук был, а рев. Но им просто вживую никто песен не пел уже лет сто. Они и этому рады, они плачут. А мы, придурки, спели старикам на праздник одну песню, и такую срань. Мы думали, что мы бесстрашные герои. А они нас победили. И стыдно мне за это до сих пор так, что и передать не могу.
— Да… — Дядя Саша крякнул, почесав в затылке. — И какая мама вас выносила?
— Но это же не только я, это же вокруг разлито. — Продолжал Монгол. — Говорят, у белорусов такого, как у нас, нет. И в России такого нет. А у нас — цветочки-речевки, пионерский салют у памятника. И всё, ничего живого. Перекормили нас этим героизмом, чи шо? Или это что-то в почве такое? Может радиация?
— Историю никто не учит. — Горько сказал дядя Саша. — История это такая наука, она как фонарь. В светлое время, когда всё в порядке, она вроде и не нужна. А когда тьма находит, то без этого фонаря — никуда. Без побед прошлых, без понимания. Когда о прошлом те так говорят, а эти эдак, тогда и памяти не остается. Тогда забыть проще. Вот потому-то была страна, и нету. И медицина была бесплатная, и образование, и в автоматах газированной воды стаканы никто не крал. В городах воду дождевую пили, не боялись. На подъездах замков не было. Теперь весь Крым — в заборах, пляжи поделены, каждый как в клетке сидит. Всем плевать... Некоторые сейчас в Бога верят. Им проще. А я не верю. А все эти теории про добрую Вселенную не стоят моих дырявых носков. — Для убедительности он пошевелил пальцами на ногах.
— Да что вы все по совку тоскуете? — Встрепенулся Игорь. — Такая же кучка выживших из ума идиотов и правила. Не по родине вы тоскуете. Ничего она вам не дала. Вы по молодости тоскуете. По Байконуру вашему.
— Мой адрес — Советский Союз. — Пьяно подтвердил дядя Саша, и глаза его потеплели.
— А я вот не переношу, когда государство меня строит, нормирует, форматирует. — Сказал Том. — Жениться можно только в государстве, дом построить — в государстве. Даже тихо умереть, чтобы государство не выпотрошило твой труп в морге, тоже нельзя. А если тебе что-то от него нужно — побегай по инстанциям, поклянчи, занеси, сколько можешь, каким-то мутным людям с потухшими глазами и куриными жирными ляжками, которые часами перебирают бумаги и непременно орут на тебя, просто потому что ты имел наглость к ним обратиться. Зато если в армию или на войну — тут государство очень хорошо о тебе помнит. Тут всегда озаботятся, тут за тобой присмотрят, напомнят, а если понадобится — сами придут. Потому что их, всю эту сволочь, охранять нужно, защищать, чтобы жили жирно, чтобы плодились хорошо.
— За космос, пацаны. — Произнес тост Монгол.
Выпили.
— Да какого хрена? — Продолжал Том. — Какого хрена, спрашивается? Я родился на этой планете, и подозреваю, что всего один раз. У меня — моя личная, уникальная, ни на кого не похожая жизнь. У меня — моя личная свобода, которую ограничивает только моя личная смерть. А какой-то вонючий упырь начинает учить меня, где мне тут ходить, как дышать? Ведь это так просто понять! Достаточно однажды посмотреть на небо, соизмерить себя со вселенной, с этим бесподобным, опрокинутым на голову космосом, почувствовать, что весь этот неповторимый мир отражается в тебе, он создан для тебя.
Том вскочил, поднял к небу распахнутые руки.
— На миг, на один миг он изъял тебя из ничто, дал возможность чуть-чуть подышать, взглянуть на всю эту кра-со-ту-у! А тебя с детства загнали в лабиринт, как крысу, и ты всю жизнь бежишь по придуманным кем-то коридорам, даже не всегда врубаясь, в каком несусветном бреду ты живешь. Получается, что государство — это огромный паразит, капкан, аппарат принуждения. Зверь, который питается твоей свободой. Говорят, что оно сдерживает мир от полного хаоса. Но вот мы сидим в Крыму, у костра. Вроде бы на территории государства, а на самом деле — нереально далеко от него. И получается, что вне государства мы люди свободные, а в нем — служим лишь тем, кто хорошо устроился. А я, к примеру, вообще не устраивался. У меня нет денег, регалий и заслуг перед обществом. Я не хочу никому ничего доказывать. Так оставьте мне мою свободу, ведь она — моя, она родилась со мной. Это моя свобода ошибаться, это моя свобода умереть так, как я хочу. И мне плевать, что думает об этом весь этот мерзкий, трижды проданный мир! Мир, который вообще имеет цену. Тот, кто играет по этим правилам, становится его рабом, даже если ему и удается выклянчить место с жирной похлебкой.
— Да, красиво задвинул, — согласился дядя Саша. — Но ты забыл про роддом, где вылупился, про квартиру, в которой живешь, про школу с поганым директором, где были еще и учителя, которые чему-то тебя научили. Про бассейн, турники, наглядные пособия. Про асфальт, по которому ты ходишь. В горах, в пещере ты бы вряд ли долго прожил, так?
— Но это, все это сделали не они, не государство. Это сделал народ, в том числе и я, и мои родители.
— А сделали бы они все это без государства? — Продолжал дядя Саша. — Может каждый, будь он сам себе начальник, пошел бы своей дорогой?
Том подбросил в костер веток.
— Не знаю. Я знаю лишь то, что люди, чуть только получают власть, сразу превращаются в надсмотрщиков.
— А по-другому не бывает. И не будет. Человек так устроен. Кто наверху — тот управляет. Кто внизу — ему не нравится.
— Я думаю, человека можно изменить. — Проговорил Том. — Или заставить.
— Ну хорошо, предположим что ты прав. — Сказал дядя Саша, хлопнув себя по коленям. Его морщины разгладились, а озаренном костром лице не было ни тени иронии. — Завтра же, прямо с утра, мы начинаем менять мир. Итак, что ты предлагаешь?
— Я не знаю. — Том стушевался. — Я хотел бы, чтобы все люди жили честно и открыто. Чтобы не делали друг другу западло. Чтобы гопников не было. Чтобы не было всех этих идиотских законов и уставов, присяг и приказов. Чтобы люди смеялись над собой, а не выставляли с умным видом свою казенную заученную тупость только потому, что так написано в учебниках или законах. Чтобы не продавали себя за деньги, душу свою не продавали, суть. Чтобы цель у жизни была радоваться, а не иметь. Чтобы люди не умирали заживо, чтобы сохраняли до старости ту радость, какую имели в детстве. Чтобы каждый мог делать то, что вздумается, не быть скованным условностями, чтобы никто не лез со своими понятиями к другим. Чтобы люди научились жить, любуясь природной красотой, чтобы больше думали о вечном. У человека есть право и на жизнь, и на смерть, и на ошибку. И нечего совать сюда свой нос всякому государству.
— Э, да я знаю, что тебе нужно. — Вдруг посерьезнел дядя Саша. — Точно! В табор тебе надо, к цыганам! Смотри сам. Полная свобода — раз. Никакого тебе государства. Где хочешь, там и живешь, — два. Опять-таки степи-кони-медведи, природа всякая. Три. Песни и пляски под гитару — четыре. Наркотики — вообще без проблем. Пять! — и он снова захохотал своим заливистым смехом.
— Не иначе Кропоткин всю эту заразу в таборе подцепил. — Вдруг сказал Монгол.
— Кто?
— Да Кропоткин. Теоретик анархизма. Так, Том?
— Я думал, ты панк. А ты гопник. — Сказал Том.
— Я? — делано переспросил Монгол. — А мне пофигу. Я так, покурить вышел. А те старики? Ты считаешь, то что тогда было — тоже панк?
— Куда фига — туда дым. — Ответил Том.
— Ты не спрыгивай, скажи как есть.
— Плохо вышло. Но ты пойми, Монгол, Дрим не целился в стариков. Он в начальство целился. Он промазал, никто ничего не понял, кроме нас. А старики… Они же для нашего государства — что елочные игрушки. Их достают ко дню Победы, как из коробки, отряхивают пыль, любуются. И — снова забывают на год.
— Ладно, проехали. — Сказал Монгол. — Меня просто всю жизнь цепляло: вот говорит человек умно. Профессор там, доктор наук. А вечером по улице идти боится. Или соберутся люди, все сплошь умные. Считают себя элитой, гениями. А попроси кого помочь, так и чаю не дадут. Фальшь одна. Поэтому я за дядьСашу. ДядьСаша жизнь понял.
— Во, тезка, дай пять! — Дядя Саша протянул Монголу руку, и тут же делано встревожился.
— И что, этот Кропоткин всю планету в табор хочет превратить?
— Ну, как водится, поначалу на России испробовать. — Подыграл Монгол.
— Вот так всегда! — Проворчал дядя Саша. — Все им нужно на России испробовать. Народ для них шо те кролики. Вот есть, к примеру, человек. Нормальный с виду, живет как все. Ходит по земле, с соседями здоровается. А потом взбредет ему в голову какая-нибудь идея. Услышит он ее, или прочитает, — не важно. Обмозгует ее так и эдак: хороша идея! Потому что вывод у каждой хорошей идеи — как у самогонного аппарата: какое бы дерьмо не заложили, на выходе чистый первак. Но это в теории, конечно. Казалось бы, от хорошей идеи кругом одна польза должна быть. Но человек еще не знает, получится оно или нет, — а уже от радости с ума спятит. Носится с этой идеей: глаза дикие, блестят. Всё о будущем говорит. Прошлое, ясно, ругает. И обязательно начинает ненавидеть. Ярко, сильно. Что-то такое ему сразу становится омерзительным, какие-то люди, группы людей. Поэтому и настоящее ему тоже не нравится, оно ему испорчено. Переубедить нельзя. И не важно, дурак или умный. Если поумнее, то всё по полочкам ответит. А если дурак, то просто не согласится. Одна беда: всех учит, как надо, а сам работать не хочет. Вот старое разрушить, поорать — это пожалуйста, это с превеликой радостью. Но хуже всего то, что человек такой идеей может любую свою дрянь оправдать. А разве такое добром кончается? И как ему объяснишь: а если ты, добрый человек, ошибся? Почему из-за твоих опытов другие должны страдать? На себе пробуй! Так ведь нет! Весь мир столбом поднимет, а себя не тронет. И разве орут ради хорошей идеи? Разве ссорятся? Хорошая идея — она вот, везде. Она не где-то там, она вот тут. В природе этой. В терпении. В мозолях. Я так скажу: если тебе не нравится какой-то политик, ты посмотри на него внимательно, ты пожалей его, если сможешь. Просто следующий будет или хуже, или тупее. Потом еще вспоминать мои слова будешь, и скажешь: прав был дядя Саша...
— Да помер уже. — Вдруг сказал Монгол.
— Кто? — Не понял старик.
— Кропоткин.
— Да я не про него. Я в общем... Ну ладно, давайте дернем. Надоела мне ваша политика, — вздохнул дядя Саша, как будто не он начал этот разговор.
Вновь брякнули кружками, замолчали. Вечерняя истома после тяжелого дня брала свое. Уставшие, тихо подергивались мышцы в ногах. «Подойди кто сейчас, скажи: вставай, или убью, — не встану», — подумалось Тому.
— Ладно! Хватит плевать в колодец мелкобуржуазных ценностей! — Наконец сказал Игорь. — Обратимся к хокку.
— А что это?
— Японская поэзия.
— О, культурная программа! — Важно сказал дядя Саша, и даже приподнялся на локтях.
— Валяй! — Засмеялся Монгол.
Осенний ветер.
Осыпаются буквы
Моих записок.
Все как-то сразу замолчали. Запахло прелью, по-особому зазвучала ночная лесная тишина. Воздух стал будто объемнее, плотнее.
И только дядя Саша с иронией проронил:
— Что, и всё?
— И всё.
— Маловато как-то.
— Не, нормально. Просто коротко, — отозвался Монгол. — давай дальше.
Воодушевившись, Игорь встал.
Ссора с любимой:
Стало коротким опять
Наше одеяло.
За окном темень,
Будто там ничего нет.
Качает вагон.
В зимней куртке — вдруг —
Цветок мать-и-мачехи:
Замкнулся мой круг.
Игорь читал медленно, с паузами. И чем дольше он это делал, тем мягче становилось лицо деда Саши. Он уже совсем успокоился, даже как-то помолодел, и, наконец, сказал совсем примирительно:
— Ну, куда лучше чем про политику!
Хороший был год:
Много яблок. И только
Тебя больше нет.
Игорь замолчал.
Том вдруг заметил, что его развезло. Голова отяжелела, все окружающее как-то враз надоело. Эта пьянка, этот длинный день, который все никак не кончался, и который требовалось обрубить решительно и бесповоротно. Он встал, шатаясь, подошел к автору, обнял его, и даже записал игорев адрес. Затем свалился под дерево и, из последних сил набросив на себя одежду, закрыл глаза.
— Игорек, ты хороший человек! — Сквозь полудрему слышался голос деда Саши. — А я тебе хотел морду набить! Я тебя уже второй раз в жизни встречаю, и оба раза в горах. А ведь я знаю, что в горах плохих людей не бывает, но ты! Ты мне стал как внук. Или как сын. Или как брат! А знаешь, почему? Потому что душа у тебя тонкая. Ты завязывай с этой всей твоей болтологией, с китайцами. Это я тебе говорю, потому что я постарше тут. Пиши лучше, работай над собой в культурном направлении... Поэзия твоя хорошая, правильная. А мысли… Мысли не те.
— А вдруг я завяжу с мыслями, и у меня дар пропадет? Вдруг писать не смогу?
— Ну тогда и не пиши вообще. Лучше талант потерять, но человеком остаться. Талант — он ведь к человеку как бесплатное приложение. Не главное он.
— А что главное?
— Главное? Ну вот представь, что таланта у тебя нет. Бывает такое? Бывает, конечно. И что от тебя останется? Понимаешь? Бывает так, что талант ого-го, а человечек — так себе, дряненький. Так что до своего таланта тебе еще дорасти нужно.
Игорь икнул.
— Вот ты, например, знаешь, почему хороших людей в горы тянет? — Продолжал дядя Саша.
— Почему?
— Потому что в горах небо всегда больше земли! Так и в человеке неба должно быть больше, чем земли.
— Да вы поэт, дядя Саша.
— Ты меня, Игорь, не обзывай. Я хочу умереть честным человеком.
— Э, народ! Выключайте хокку, отбой. — Буркнул Монгол.
Я работаю в журнале «Фома». Мой роман посвящен контр-культуре 90-х и основан на реальных событиях, происходивших в то время. Он вырос из личных заметок в моем блоге, на которые я получил живой и сильный отклик читателей. Здесь нет надуманной чернухи и картонных героев, зато есть настоящие, живые люди, полные надежд. Роман публикуется бесплатно, с сокращениями. У меня есть мечта издать его полную версию на бумаге.