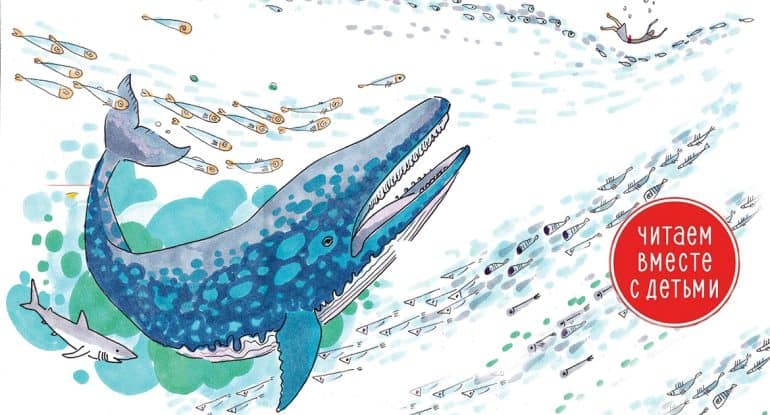О нет, к делу то, что я рассказываю, совершенно не относится... Разумеется Вас, практиканта, ожидают более волнующие занятия, чем замена увядающих цветов свежими. У нас в музее очень серьезно относятся к участию в подготовке будущих искусствоведов. Это все так... лирические вступления и отступления, пока не появится милейшая Ольга Абрамовна и не уведет Вас в святая святых наших запасников и архивов. Так вот, эти розы... Случайных посетителей они порой удивляют. Все-таки у нас вполне светский музей, а тут цветы перед иконами... Двадцать лет тому это вызывало и совсем неслучайное недоумение у соответствующих инстанций, - два последних слова она произнесла с легким, но явственным отвращением. - Сколько крови они попортили Александру Семеновичу... Крупнейшего ученого, мирового авторитета в области позднего барокко, третировали как мальчишку... В конце концов наши реставраторы совместными усилиями сочинили какую-то псевдонаучную объяснительную записку о положительном влиянии эфирных масел представителей семейства Rosaceae на яркость древних красок, и только тогда наш отдел оставили в покое.
Маленькая черноволосая женщина, тонкая и быстрая как швейная игла, с видимым удовольствием щеголяющая латынью, но изнемогающая под ролью "старого, опытного музейного работника, вводящего зеленого практиканта в курс дела" рассказывала об отделе скоро и подробно. Я внимал. Мне было двадцать лет и три дня. Я был исполнен веры, смятения и восторга, и самые заурядные фразы казались мне знаками - вехами неведомых глубин. "Это накладно" - какая мудрость, какая жестокость в этой прозрачной фразе. Миру дорого обходится отсутствие Божьих чудес... Наверное, в этот момент я решился. Не знаю... Не помню, помню только луч света, пробравшийся в щель между темными суконными занавесями и скользнувший по новгородскому "Благовещению", и волосы архангела, вспыхнувшие нездешним золотом.
- Александр Семенович - это наш бывший заведующий. Светлая ему память, все мы здесь его ученики или ученики его учеников. Говорят, когда его единственная дочь, а женился он поздно, тяжело заболела, он дал обет, что если она поправится, то, пока он жив, перед этими иконами будут всегда стоять цветы. И сдержал его. Хотя, возможно, эта история сродни нашим музейным преданиям о "белой даме", появляющейся в зале барокко в ночь коронации Екатерины Второй, и бронзовом блюде, падающем со стены каждый год накануне дня Ивана Купалы в секторе античности... Не знаю. Доподлинно известно только одно: Александр Семенович всегда лично следил за тем, чтобы цветы были свежие. Теперь этим занимаемся мы. Удивительнее всего, что сам он при этом как был, так и остался до конца своих дней человеком глубоко и искренне неверующим. Но верность слову всегда значила для него чрезвычайно много... Так и появилась эта традиция, традиция не веры, но верности... Он был верен своему слову, мы верны памяти своего учителя... а чему будут верны те, кто придет после нас?... Как вы думаете?
- Возможно, им уже будет дана верность вере... - предположил я, каменея от неловкости и косноязычия, - я хотел сказать...
- О нет, не поправляйтесь, - перебила она меня, - и не стыдитесь своей серьезности. Юность должна быть серьезной, иначе зачем?..
Я не был шарлатаном. Даже сейчас, когда отчаяние мое так же полно и окончательно, как когда-то было счастье, продолжаю настаивать: я не был шарлатаном! Да, я взял на себя дерзость сотворить чудо во славу Господа, в которого веровал всей душей, но разве до меня Бог не творил чудес человеческими руками? Я был грешен, я и сейчас грешен, хотя нет... сейчас это другое... но я не искал славы для себя! Я лишь хотел, чтобы розы цвели и не вяли к вящей славе Божией. Я любил тебя, Господи, как я тебя любил!...
Чуду надлежало рождаться в тайне и тишине, и я остерегался расспрашивать людей, я доверял только книгам, книгам, которые брал на другом конце города в библиотеке, в которую записался по отцовскому паспорту. Между мной и чудом не должно было быть никакой видимой связи, я даже старался не заходить в тот зал без крайней необходимости, хотя чувствовал временами, что задыхаюсь среди мраморных амуров, похожих на пластмассовых пупсов моей младшей сестры.
Следовало торопиться, и я "глотал" справочники и учебники с легкостью, которой никогда в себе не подозревал, так алчущий глотал бы, вероятно, живую воду. "Формула чуда" оказалась неожиданно проста, большую часть входивших в нее ингредиентов я смог купить в центральной аптеке, остальные нашлись в магазине с непритязательным названием "Химреактивы" - то были разнообразные сложные соли. Словно средневековый фанатик-алхимик, я взвешивал ночами драгоценные крупинки на купленных на развале химических весах и ссыпал отмеренные миллиграммы в пузырек из темного стекла. В музее подсмеивались над синими кругами у меня под глазами, подозревая юношескую влюбленность. По большому счету, они были недалеки от истины.
Была среда - первый рабочий день музейной недели. За полчаса до открытия экспозиции в высокий узкогорлый кувшин налили свежей воды и поставили цветы. Я помню - там было три белых розы и две красных. В те несколько минут, когда смотрительница оставила зал, я успел высыпать в воду щепоть разноцветных кристаллов и скрыться в маленькой комнате между запасниками и канцелярией, которую выделили мне на время практики.
Следующие дни длились, как веревка для просушки белья, протянутая через комнату. Я не мог ни шагнуть в сторону, ни свободно вздохнуть, ни взмахнуть руками, я был стеснен, загнан в угол своим ожиданием. Удивительно, но чуда, подготовленного моими собственными руками, я ждал с такой смесью ужаса и упованья, словно все мое участие в нем ограничилось пылкой и бессильной молитвой. Это ли не доказательство, что у всякого подлинного чуда только один Творец?.. думал я.
Первый шепоток прошел по музею через две недели. Еще неделю спустя слухи просочились в город. В зале с новгородской и псковской иконописью стало людно, как не было никогда досель. Некоторые посетигели приходили к самому открытию музея и простаивали перед иконами до вечера, на их лицах были страх и надежда, многие женщины плакали. Цветы простояли без малого полтора месяца, и к концу этого срока в музее даже в будние дни наблюдалось подлинное столпотворение.
Несколько дней я боялся, что воду и сами цветы могут послать на экспертизу и тайна моя раскроется. Действительно, такие предложения высказывались, но работники музея раз и навсегда заявили, что экспертизы не будет, а журналисты против обыкновения не настаивали. Удивительно, но в черством, падком на разоблачения городе не нашлось ни одного человека, пожелавшего чуду оказаться меньшим, чем чудо. Что-то странное происходило и со мной: первый раз после своего самозваного чудотворчества заглянув в этот зал, я долго не мог из него уйти, робкая, какая-то стыдливая радость поднялась из неведомых мне самому глубин и, дивясь и благодаря, я стоял посреди Божьего мира, мира, бывшего чудом и полного чудес, в немом, неторопливом благоговении, похожем на забытье.
- Бога нет. Практика моя закончилась вчера. Бога нет. "Не верую, Господи, - не тронь моего неверия!" Мне страшно об этом думать, я снова лечу в бездну, но что мне делать, если Его нет? Я не умею обманывать себя, только других.
Прощание с отделом было до нелепости трогательным. Меня звали непременно возвращаться к ним на дипломную практику, а Ольга Абрамовна даже сочла возможным намекнуть, что несмотря на трудности, испытываемые музеем, они, наверное, смогут оставить меня стажером, если я не передумаю заниматься русским барокко. Потому что "Вы же понимаете, Александр, науке нужен приток свежей молодой крови, в противном случае она будет стареть вместе с нами". Я понимал, я столько всего понимал, что отчаяние мое было беспредельно.
"Рече безумец в сердце своем - несть Бог." Пусть я безумец, - но кому от этого легче?! От этого не легче даже мне самому ... Во всяком случае, довольно фальшивых чудес во имя фальшивой веры. Завтра в незамутненную "чудесными" добавками воду поставят свежие цветы, и все пойдет по-старому. Цветы будут вянуть и умирать, как то и положено цветам, а я стану украшать стены вновь разверзшейся во мне бездны яркими жизнерадостными наклейками-фантиками - таков удел человеческий. Роль чудотворца оказалась мне не по силам, я растерял даже те немногие утешительные заблуждения, которые имел. Горе мне.
"Яко семя тли во мне есмь", о нет, не семя, уже далеко не семя, я весь пронизан этим тлением, я и есть это тленье, а Тебя нет. Не говорите мне, что "это бывает" и "это пройдет", не опошляйте моего неверия. И если я говорю о бездне, не стоит уверять меня, что это не более чем овражек, присыпанный палой листвой юношеских сомнений. Я вам не верю.
Мое неверие положит конец чудесам моей веры. Как это символично! – могут воскликнуть любители восклицать... Как горько… Я не Иов и не стану судиться с тем, кого нет. Я не жду ни справедливости, ни милосердия и прошу только об одном: оставьте меня в покое, не трогайте моего неверия.
Каждый день теперь я захожу в музей. Ольга Абрамовна видит в этом очевидный знак моей преданности делу русского барокко. Я ее не разубеждаю. С учебой дела обстоят из рук вон плохо, впрочем, на четвертом курсе это уже не важно. Да и вообще не важно. Розы стоят уже пятую неделю, как сказала мне смотрительница, добрейшая Анна Георгиевна, и все еще не думают вянуть.
Я спокоен. Знаю, рано или поздно я выведу на чистую воду того, кто следом за мной взялся за подделку чудес, и тогда этому "кому-то" не поздоровится. Музей устал быть причиной сенсации, затянувшееся удивление утомляет. Я думаю, они только порадуются моему разоблачению. Говорят, неделю назад образец воды из кувшина все-таки отвезли на экспертизу, но ничего особенного в ней не нашли. Меня это не убеждает, кто бы ни был этот "некто", он наверняка достаточно умен и расторопен, чтобы вовремя подменить воду и отвести тем самым от себя всякие подозрения. Это ведь так легко, списать все на чудо...