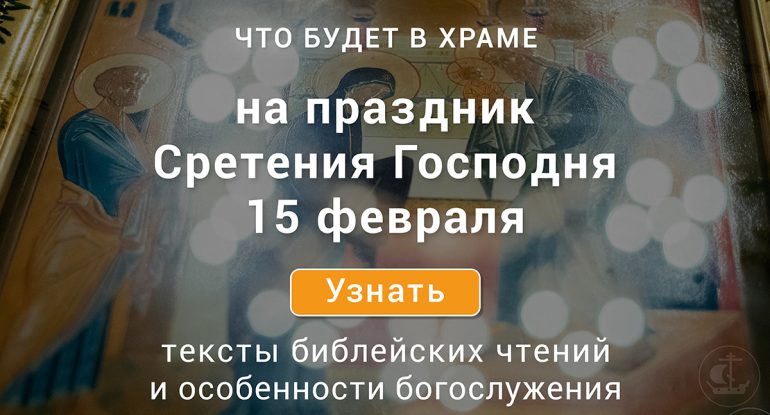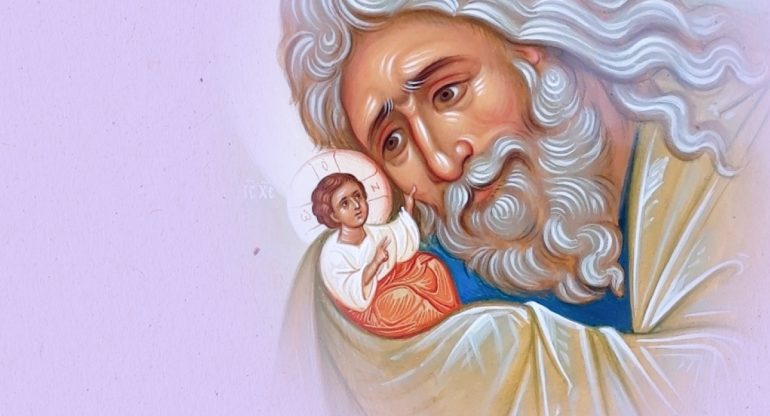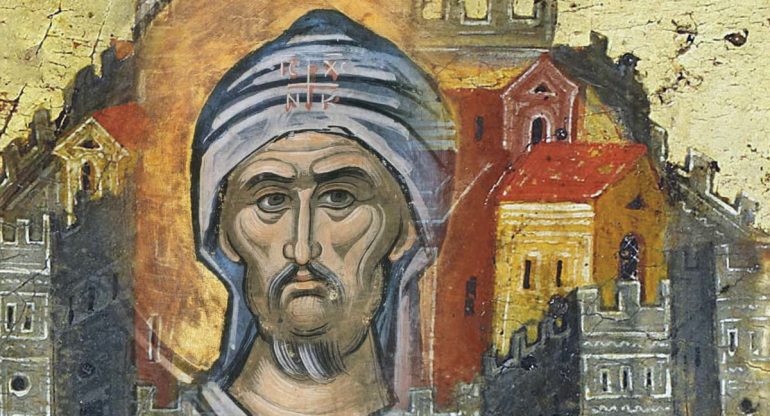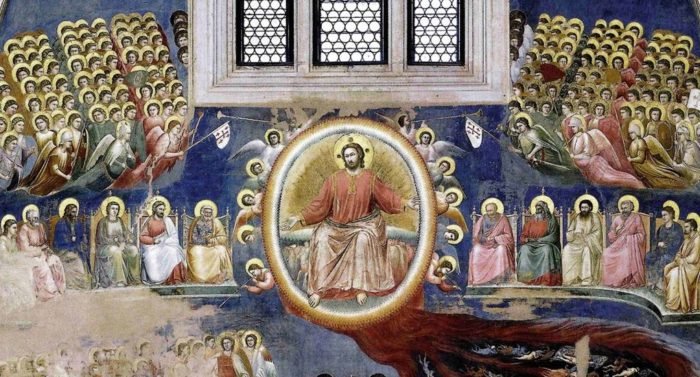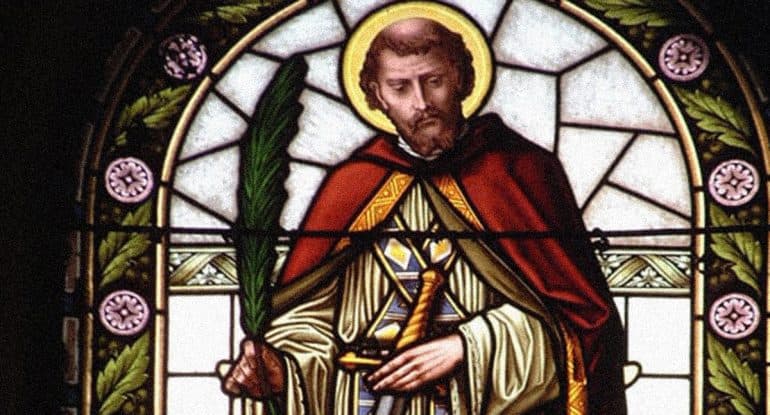Праведники живут во веки; награда их — в Господе, и попечение о них — у Вышнего, — читаем мы в Книге Премудрости Соломона (Прем 5:15). Но что если праведность не спасает от боли и страданий? Что, если вера — не гарантия благополучия, а приглашение заглянуть в бездну?
Книга Иова, над содержанием которой размышляет постоянный автор журнала «Фома»иерей Дмитрий Барицкий, об этом. О понятном и знакомом многим опыте: вот я хожу в храм, молюсь, не делаю никому зла, но вместо награды получаю вдруг страшный удар. Как при этом не разочароваться в себе как в «правильном» Божьем ребенке или в Боге как в Отце, Который не даст в обиду?
«Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет» (Пс 1:6)
Путь к Богу — путь веры. Истина, с которой никто спорить не будет. Но что означает идти путем веры? Очевидно, это идти путем праведности. Как говорится в одном из псалмов царя Давида, знает Господь путь праведных, а путь нечестивых (т. е. замыслы, намерения, убеждения, формирующие образ жизни. — Прим. ред.) погибнет (Пс 1:6). Но тогда следующий вопрос: а быть праведным человеком — это как?
Все Священное Писание именно об этом. Все оно отвечает на вопрос, как идти путем веры и что означает быть праведником. Отвечает по-разному. Иногда прямо, при помощи строгих предписаний закона. Иногда косвенно, используя поэтические образы и рассказывая истории. Одним словом, Библия не дает однозначного ответа. Чтобы определить суть праведности, она использует разные языки описания. Она дает понять читателю, что праведность — явление многомерное, сложное, порой амбивалентное. И ее математической формулы не существует.

Чтобы эту идею проиллюстрировать, достаточно обратиться к тем книгам Библии, которые по своей форме напоминают весьма распространенный в литературе Древнего Востока жанр — жанр мудрости. В библейском каноне эти книги известны под названием «Учительные книги». Один из самых ярких представителей этого жанра — Книга Притчей царя Соломона. Это сборник афоризмов, кратких изречений, которые подсказывают нам, как именно упорядочить свою жизнь согласно Божьему закону.
Праведность, о которой говорит Книга Притчей, не философски-абстрактная категория. Она очень конкретна. А потому в Книге Притчей мы находим множество бытовых примеров того, что означает быть праведником. Это означает уважать старших, заступаться за слабых и обездоленных, не обвешивать покупателя, не изменять жене, не вступать в преступные сообщества, не лгать, не клеветать, не издеваться над животными, не упиваться вином, с рассуждением вести хозяйство и т. п. Одним словом, чтобы быть праведником, необходимо хранить свою совесть, быть честным перед Богом, людьми и самим собой. И напротив, грешник — тот, кто не живет по этому закону. Кто пренебрегает правилами, лжет, лицемерит, грабит, убивает и разрушает всякие отношения.
Но примечателен даже не столько этот перечень хороших и плохих поступков. Важен вывод автора. А считывается он довольно легко: Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет. Если над кощунниками Он посмеивается, то смиренным дает благодать (Притч 3:33–34).
Иными словами, праведный человек — это не только человек добропорядочный. Это человек, на котором почивает благословение Божие, и нередко это благословение имеет материальный эквивалент. Напротив, грешник — это человек ненадежный для общества, зачастую он преступник, на нем лежит проклятие. И опять же, это сказывается на его жизни. Успеха грешнику не видать.
Мы видим, что для автора Книги Притчей, с одной стороны, праведность и благоденствие, с другой, нечестие и наказание идут рядом, рука об руку. Праведник в целом не страдает, страдает грешник. Даже если праведник сталкивается с бедой и горем, это временные явления. Просто черная полоса жизни. А вот грешнику бывает очень плохо, его благополучие лишь видимость.
Вывод прост: будьте праведны — и будет вам благословение от Бога. А если будете грешить, вам будет нехорошо. Грешником быть невыгодно. По этой причине некоторые ученые-библеисты называют этику Книги Притчей «нормативной дидактикой». Ведь, озвучивая прописные истины, она учит нас базовым, школьным духовным закономерностям. Благодаря им стоит наше общество. Так мы учим своих детей. Сразу вспоминается: «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: —Что такое хорошо и что такое плохо?»
«Кто согрешил, он или родители Его?» (Ин 9:2)
Важен еще один момент. Эта школьная мудрость не только инструмент, который помогает нам правильно действовать. Это еще и своеобразные очки, которые помогают нам ориентироваться в социальном и этическом пространстве. А именно: через эту призму мы оцениваем то, что происходит вокруг нас.
Так, при помощи описанных в Книге Притчей закономерностей мы можем объяснить, почему приходит беда и откуда берется счастье. Если у человека хорошо в семье, на работе, если он окружен уважением и в целом дела его идут в гору, очевидно, что он угоден Богу. И напротив, если с близкими разлад, работы постоянной нет, окружающие его не принимают, одним словом, земля горит у него под ногами — что-то этот человек делает не так. Скорее всего, он в немилости у Бога.

Согласитесь, такая логика интуитивна и нередко чрезвычайно полезна. Ведь нам не всегда понятно, что творится в судьбах людей и мира. И подобное непонимание нередко рождает в душе беспокойство и страх. А школьная мудрость помогает нам все расставить по своим местам. Она помогает дать оценку как своему собственному поведению, так и поведению окружающих. Она подсказывает нам, с кем дружить, а кого избегать. Какие поступки совершать, а от каких воздерживаться. То есть до некоторой степени она делает жизнь понятной, предсказуемой, безопасной. Она избавляет нас от ощущения неопределенности и чувства тревоги.
Однако есть здесь и своя опасность. Мы склонны к тому, чтобы применять этот инструмент автоматически, не осознанно, без рассуждения ко всякой ситуации. Яркий пример находим в Евангелии. Апостолы, увидев человека слепого от рождения, спрашивают Христа: Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? (Ин 9:2). Цепочка их рассуждений очевидна. Человек страдает, следовательно, был грех. Кто же его совершил? Какой-то иной вариант даже не приходит апостолам на ум. Это и есть механическое применение той самой школьной мудрости, «нормативной дидактики», к ситуации человека.
Подобная прямолинейная и механистичная оценка жизни через призму традиционной этики имеет ряд негативных последствий. В первую очередь от этой логики могу страдать я сам. Ведь я изо всех сил стараюсь быть прилежным учеником, отличником во всех областях жизни, хорошим, удобным мальчиком или девочкой. Такой перфекционизм становится пыткой для меня самого. Ведь я постоянно грызу себя за любой естественный огрех или промах. А когда мне надоедает терзать себя, я принимаюсь за окружающих и бываю довольно строгим судьей. Во мне поселяется дух менторства и морализаторства. На всякий вопрос у меня есть ответ. Со мной не так-то просто общаться. И о таких, как я, обыкновенно говорят «святой сатана». Именно этот духовный недуг возбуждал религиозных лидеров иудеев против Христа.
Опасность застрять в этой школе добропорядочности чревата не только высокомерным чванством. Тот, кто из года в год сидит здесь за одной и той же партой, начинает верить в то, что хорошим быть выгодно. Такой человек, сам того не осознавая, однажды начинает торговаться с Богом, манипулировать Им. Он не отрицает Его существование и формально не перестает быть религиозным человеком. Однако Господь становится для него лишь средством более эффективного достижения собственных целей.
Предостерегая от этого автоматизма, выстраивания отношений с Богом по принципу «Ты — мне, я — Тебе» Своих учеников, Христос отвечает им в эпизоде со слепцом: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии (Ин 9:3). Это выход за рамки той логики, в которой осмысляют мир апостолы. Спаситель словно говорит им, что жизнь не ограничивается школой. Ведь школьная мудрость не в силах объяснить все, с чем мы сталкиваемся. А потому помимо школы есть еще университет, а за ним аспирантура.
В Ветхом Завете есть одна книга, в которой говорится именно об этом. Книга Иова. Это тоже книга мудрости. Но в отличие от Притчей Соломоновых ее задача — определить границу, за которой самые правильные школьные предписания, как следует вести себя человеку, чтобы наладить отношения с Богом, нуждаются в восполнении. Так же как между выпускником средней школы и профессором стоят университет, аспирантура и годы научной работы, так и человек, научившийся хорошо себя вести, должен еще многое выучить, осмыслить и пережить, чтобы приблизиться к той подлинно духовной мудрости, которая способна посмотреть на сложность мира через призму Божественного откровения.
Книга Иова указывает на ту границу, за которой заканчивается школа и начинается взрослая жизнь, предлагает нам набраться мужества и примерить эту жизнь на себя.
«Был человек в земле Уц» (Иов 1:1)
Иов — образец благочестия и праведности. Он не просто круглый отличник в той школе, о которой говорит Книга Притчей. Он вундеркинд, который уже в школе начинает не только интересоваться университетской программой, но и легко решает задачи для студентов первого курса. Иов весьма именитый и богатый, но при этом бескорыстный человек. Он искренен в своей вере и служит Богу не за мзду. Он стремится хранить чистоту не только в словах и делах, но и в помышлениях своего сердца.
Весьма показательны в этом плане его отношения с детьми. Говорится, что время от времени его сыновья и дочери собирались, чтобы попировать. После того как праздник заканчивался, Иов приносил жертву по числу детей, Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни (Иов 1:5). Как отец, Иов переживал за чистоту помыслов своих детей. Он был внимателен не только к своему внутреннему миру, но и к тому, что происходит в сердцах его домочадцев. Все это признаки не формальной, но подлинной духовности.

И вот внезапно в жизнь такого человека приходит беда. И случиться этому попускает сам Бог. Как говорит Писание, И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана (Иов 1:6). Сатана задает Богу очень резонный вопрос: разве даром богобоязнен Иов? ...Но простри руку Твою и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя? (Иов 1:9, 11). Провокация лукавого бьет в слабое место школьной добропорядочности: какова цена добродетели, если человек твердо знает, что за нее ему положена награда?
Вопрос лукавого может выбить из колеи кого угодно. Но Бога невозможно взять на слабо. Для него нет необходимости вступать в спор с бесом, что-то ему доказывать. Тем более Он не будет играть с ним на тотализаторе и в качестве ставки использовать судьбу праведника. Бог прекрасно знает почему Иов праведен. Он видит его сердце до самой глубины, видит, что в нем нет никакой корысти.
Проблема в другом: этого не знает сам Иов. Фактически он находится уже за пределами школьной праведности, но при этом в его голове не укладывается, почему на него, человека праведной жизни, свалились несчастья, которые мало кто может выдержать. Он доверяет Богу, но в основе этого доверия — представления о собственной непорочности. Он служит Богу не за страх, а за совесть, но при этом именно его праведная жизнь и следование школьной программе добродетельностиявляются для него залогом крепкой связи с Творцом. Поэтому он и не может подойти к Богу ближе. Сердцем праведник созрел для этого, но Его не пускают его же собственные ментальные установки.
В Священной истории это случай не единственный. В очень похожей ситуации оказался некогда праведный Авраам. Бог даровал ему сына, Исаака. В сознании Авраама Исаак являлся не просто наследником, но своеобразным знаком благословения Бога и залогом исполнения Его обещаний. Можно предположить, что в какой-то момент Авраам начал чрезмерно уповать на своего сына, возлагать на его присутствие такие надежды, какие подобает возлагать лишь на Бога. Поэтому Господь и попускает ему испытание — приказывает принести Исаака в жертву. Отказаться от него. Вера Авраама должна быть безусловной. Такой же безусловной веры Бог ждет и от Иова. А для этого все преграды должны быть устранены.
И далее мы видим, как мир Иова начинает рассыпаться на глазах. Гибнет скот, слуги, сыновья и дочери. Иов горюет, но его реакция на случившееся — это реакция абсолютного принятия и доверия Божьему Промыслу: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! (Иов 1:21). Иов действительно вундеркинд. Другой «школьник» после такого впал бы в депрессию, если вообще не сделал бы чего похуже.
Тогда сатана делает второй заход. Он требует «кожи», «кости и плоти» Иова. Лукавый знает, что ничто не может уязвить человека сильнее, чем прикосновение к его непосредственной телесной реальности. Наше тело напрямую связано с нашим внутренним миром, с нашим сердцем. Мое тело — это я сам. И Бог дает сатане доступ к этой самости праведника. Единственное условие, которое Он поставил лукавому — сохранить Иову жизнь. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его (Иов 2:7).
Выбор болезни далеко не случаен. Проказа не просто смертельный недуг. Древние люди были уверены, что проказа — явный признак богооставленности человека по причине его греховности. Это позорная болезнь, это скверна, это наказание Бога за особо тяжкие преступления. Когда удары судьбы сделали Иова нищим и забрали детей, люди сочувствовали ему. «Как жаль, что страдает такой хороший человек», — говорили они. Когда он был поражен лепрой, отношение к нему изменилось. «Никакой он не праведник. Он просто искусный лжец и лицемер. А Бог шельму метит. Поделом ему», — вот что мог слышать Иов от окружающих.
Жена Иова знает, что в супруге нет греха. Во всем происходящем с мужем она склонна видеть пустую бессмыслицу. Наблюдая за его метаниями, она советует ему: Ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога и умри! (Иов 2:9). Ее совет можно понимать так: «Иов, хватит держаться за свою веру и твердить, что Бог любит тебя. Разве благой Бог будет так поступать со своими верными чадами. признайся, что ты обманулся. Отрекись от своих убеждений и перестань жить. Так ты хотя бы прекратишь страдать».
Праведник не обращает внимание ни на насмешки и злословие дальних, ни на причитания и советы ближних. Он продолжает погружаться в свою боль. Он продолжает проживать ее всеми клеточками своей души и тела.
При этом Иов не теряет разума, а, напротив, демонстрирует высочайшую степень трезвомыслия и бодрости духа. Ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? (Иов 2:10), – отвечает он жене. Писание добавляет, что Во всём этом не согрешил Иов устами своими (Иов 2:10).
«Погибни день, в который я родился» (Иов 3:3)
Стойкость Иова поразительна. В своей твердости он напоминает героев легендарного прошлого. Не случайно его даже сравнивали с титаном Прометеем из древнегреческих мифов. Но тем Священное Писание и отличается от сказаний и легенд, что его персонажи не полубоги, не герои, не прекрасные мраморные статуи античности. Душевный мир Иова — мир человека, во всем подобного нам. И у него так же есть предел прочности.
Чем глубже страдания Иова, тем отчетливей проявляет себя раздирающий его душу конфликт. Праведник достигает предела в своих попытках со школьной скамьи проникнуть в тонкости высшей духовной математики. В словах Иова начинает чувствоваться недовольство происходящим. В один момент, когда боль становится невыносимой, нутро праведника словно встает на дыбы, и он начинает вопить: Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек! …Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? (Иов 3:3, 11)

Боль, которую переживает Иов, открывает ему глаза на то, на что он раньше не обращал внимания. Праведник начинает видеть, что он не одинок в своих метаниях. Что подобное происходит в этом мире на систематической основе. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола; бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. …отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог; заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями… В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того (Иов 24:3–4, 9–10,12). В то время как хорошие люди страдают, грешники благоденствуют. Более того, ничто не угрожает их репутации и после смерти: …вдень погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? Кто представит ему пред лицепуть его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают ко гробам и на его могиле ставят стражу. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа (Иов 21:30–33).
Это не означает, что раньше Иов не знал об этом. Просто раньше это не было содержанием его личного опыта. Теперь же страдания насильно вырывают его из уютного, комфортного и предсказуемого мирка. Иов погружается в ту боль, которой наполнена реальность за пределами пузыря, внутри которого он жил. Об этой боли он знал лишь со слов других. А теперь он сам от нее захлебывается.
Этот новый опыт выбивает у Иова почву из-под ног. Он сметает те ментальные конструкции, которые некогда помогали ему взаимодействовать с реальностью. Представления о Боге и его взаимоотношениях с человеком, которые формировались в его сознании с раннего детства, рушатся как карточный домик.
Иов совершенно дезориентирован. «Оказывается, праведник не защищен Богом, оказывается, праведник может потерять всё и даже заболеть проказой. Стоп, а праведник ли я? Может, я в чем-то согрешил, но не вижу в чем именно? Или же моя жена права и все дело в Боге? Я доверился злому демону, который просто насмехался надо мной?» Другими словами, ум Иова ставит его перед дилеммой: либо перестать верить в то, что Бог благ, либо признать, что все люди, в том числе и он сам, страдают за что-то. Эта дилемма — неизбежный результат прежнего школьного образа мышления Иова, привычки его сознания устанавливать причинно-следственные связи между праведностью и благоденствием, и наоборот.
Глубинную правду жизни, с которой столкнулся Иов, невозможно описать с помощью тех рациональных схем, которые предлагает «нормативная дидактика» и которые укоренились в его уме. Реальность оказалась шире и глубже, чем можно было о ней помыслить. Своим рассудком Иов перестает понимать и принимать созданный Богом мир, в котором так много страдания. …Он губит и непорочного и виновного. Если этого поражает Он бичом вдруг, то пытке невинных посмевается. Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ееОн закрывает. Если не Он, то кто же? (Иов 9:22–24). И все же сердце подсказывает Иову, что не стоит торопиться следовать привычной логике и делать окончательный вывод. Он предчувствует, что есть какая-то истина, которая ему пока что недоступна. Именно поэтому в своем сердце он продолжает держаться за веру в Бога. Отсюда и болезненная двойственность. С одной стороны, верность и преданность Творцу, с другой — бунт против Него, а вернее против Его главного дара, против самой жизни.
Если бы праведник остался в этом состоянии, то он оказался бы в ситуации, описанной Ф. М. Достоевским в романе «Братья Карамазовы». Именно бунт Иова, мучающий его конфликт ума и сердца, стал прообразом бунта Ивана. Рассказав своему брату Алеше о страданиях невинных детей, он говорит: «Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять». Иова Промысл Божий ведет дальше, чем Ивана.
Та ночь, в которую погружается душа праведника, становится для него не тупиком и мрачным дном. Скорее это мучительные роды. Иов рождается в новую жизнь. Болезненный опыт выводит его за пределы тех школьных представлений, благодаря которым он некогда жил в мире с Богом и людьми, но которые теперь мешают ему идти дальше и приблизиться к Творцу.
И далее, по мере повествования, мы видим, как та тонкая духовная интуиция, которая не позволила Иову сделать вывод о происходящем в рамках привычной ему логики, разрастается. В нем расширяется ощущение правды Божией. В его сердце постепенно формируется ответ о смысле того, что с ним происходит. Эта духовная динамика со всей отчетливостью отображена в диалогах Иова с друзьями.
«Он и слугам Своим не доверяет и в Ангелах Своих усматривает недостатки» (Иов 4:18)
Узнав о том, что с Иовом приключилось несчастье, к нему спешат его друзья Элифаз, Вилдад и Цофар. Беседе праведника с ними Книга Иова отводит центральное место. Друзья Иова очень знатные люди. Как и некогда он, они имениты и богаты. Если следовать греческому переводу, то все трое — цари независимых государств. Помимо того, что они люди властные, они еще мудрецы и богословы. Во многом Элифаз, Вилдад и Цофар подобны Иову до приключившейся с ним трагедии. Это становится очевидным из тех диалогов, которые они ведут со страдальцем.
Все трое люди верующие, богобоязненные, и все трое твердо держатся формальных школьных правил. В монологах каждого из них звучит одна и та же мысль: «как благоденствие, так и страдание самым непосредственным образом связаны с праведностью человека. Если страдания пришли в нашу жизнь, то был грех против Творца». Поэтому для них Иов в чем-то согрешил. Верно, злоба твоя велика, и беззакониям твоим нет конца, — подозревают его друзья (Иов 22:5). Может быть, он просто забыл о своем грехе: …Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению(Иов 11:6). Да и вообще, нет такого существа, которое можно было бы считать совершенно чистым и непорочным перед лицом Всевышнего. Как выражается Елифаз, Он и слугам Своим не доверяет и в Ангелах Своих усматривает недостатки (Иов 4:18, ср. 25:3–6). Поэтому они и предлагают Иову приглядеться к своей совести и покаяться перед Богом в тайном прегрешении, из-за которого на него и обрушились все эти беды: Сблизься же с Ним — и будешь спокоен; чрез это придет к тебе добро» (Иов 22:21).

Несмотря на их возвышенные и весьма убедительные речи, Иов настаивает на своем: в нем нет вины, совесть его перед Богом чиста, и причина его страданий не во грехе: Нога моя твердо держится стези Его; пути Его я хранил и не уклонялся (Иов 23:11). В конечном счете какого-либо понимания у своих товарищей Иов не находит. Более того, получает упреки в гордости и строптивости: К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь? Что устремляешь против Бога дух твой и устами твоими произносишь такие речи?» (Иов 15:12–13).
Конфликт между Иовом и его друзьями неизбежен. Это столкновение двух разных опытов. Элифаз, Вилдад и Цофар ортодоксальные книжники. Они прочно стоят на основе текстов традиции, к которым постоянно апеллируют: Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдения отцов их, — поучают они Иова (Иов 8:8). Но все это Иов и сам прекрасно знает из книг и других священных текстов. И он не спорит об этом с товарищами. Он просит их лишь об одном — учитывать его ситуацию и опыт: И у меня есть сердце, как у вас; не ниже я вас… Сколько знаете вы, знаю и я: не ниже я вас» (Иов 12:3, 13:2). Он молит не выносить о нем окончательный суд. Призывает допустить мысль о том, что те рациональные схемы, при помощи которых они описывают Бога и Его отношения с людьми, до некоторой степени условны.
Иов на личном опыте познает важную истину: не все, что происходит в жизни человека можно объяснить с позиции школьного богословия. Не обо всем можно написать в книге. Те пути, которыми Господь ведет нас за Собой, во многом скрыты от нашего разумения. И этому Иов научился не из священных текстов. Это открылось ему через боль. Лучшее, что могут сейчас сделать близкие, — поддержать его в этой агонии молчанием.
Но друзья продолжают настаивать на своем. С ними происходит парадоксальная вещь. Они вроде бы выступают в качестве апологетов Творца, делают акцент на Его праведности, на том, что Он не попускает человеку страдать незаслуженно. Но по факту они оказываются солидарны с сатаной, который утверждает, что человек праведен лишь потому, что надеется на награду.
Так происходит со всяким, кто не умеет ставить свою мудрость под вопрос. Если мы не признаем, что наши возможности, когда мы начинаем рассуждать о Боге, о Его Промысле, о судьбе человека, весьма ограниченны, тогда самые глубокомысленные выводы рискуют превратиться в кощунственную глупость. Иову в его ситуации очевидна эта близорукость друзей. А вы сплетчики лжи; все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали! это было бы вменено вам в мудрость (Иов 13:4–5), — обличает он их.
С высоты своего опыта Иов видит, что мы, люди, привыкли называть мудростью совсем не то, что ей является. Мы научились создавать уют и комфорт, добились прогресса во многих областях своей жизни, считаем, что твердо, обеими ногами, стоим на земле. И мудростью мы называем все то, что приводит нас к этой стабильной и предсказуемой жизни. Однако тайны мира Духа, в котором и обитает подлинная Мудрость, мы так и не постигли. Иов и говорит: Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы; в скалах просекает каналы, и вседрагоценное видит глаз его; останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретается? и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Откуда же исходит премудрость? и где место разума? (Иов 28:3, 9–13, 20).
Не спасает ситуацию даже Елиуй. Это четвертый собеседник Иова, самый молодой из всех. Он видит, что речи трех друзей праведника не достигают своей цели, а Иов продолжает оправдывать себя больше, нежели Бога (Иов 32:2). Тогда Елиуй с горячностью бросается в бой. Суть его монолога сводится к тому, что страдание — это не наказание в юридическом смысле этого слова. С его помощью Бог спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его (Иов 36:15). Еврейский оригинал позволяет перевести эту строчку еще более выразительно: «спасает бедного в (посредством/через) беде его и в (посредством/через) угнетении открывает ухо его». Скорбями Бог спасает человека. Посредством страдания и тяжких обстоятельств делает его духовный слух более тонким и чутким.
Ответ Елиуя очень глубокий. В нем нет того прямолинейного юридизма, который есть в ответах трех друзей. Скорее он мыслит в духе богословского экзистенциализма. Однако и объяснение Елиуя попадает мимо цели. Это становится очевидным, когда на сцену выходит еще одно действующее лицо, появление которого все расставляет по своим местам. После беседы с друзьями Иову является Сам Бог.
«Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне» (Иов 38:3)
Бог выходит на сцену повествования со словами обличения: Господь отвечал Иову из бури и сказал: кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? (Иов 38:1–2) Свт. Григорий Великий предполагает, что речь идет именно о Елиуе. Его ответ самый глубокий и в большей степени претендующий на истину, чем слова трех других мудрецов. Однако даже в его рассуждениях нет смысла, и они «омрачают Провидение», то есть не проясняют Промысла Божия.

Препояшь ныне чресла твои, как муж…, — обращается Бог к Иову (Иов 38:3). Выражение «препоясать чресла» означает подготовиться к чему-то трудному и важному: к бою, работе, духовной брани. В данном случае это образ внутренней собранности и готовности. А слова «как муж» указывают на зрелость, ответственность, способность держать ответ и не прятаться за обиды или страх. То есть Бог призывает Иова стать лицом к лицу с тайной жизни и бытия без попытки свести всё к простым ответам. И потому эти слова как нельзя более к месту. Ведь мы вместе с Иовом ждем, что сейчас Господь своим ответом все расставит по местам. Однако вместо этого Бог Сам начинает задавать вопросы: …Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне (Иов 38:3). Монолог Бога занимает целых четыре главы. Те вопросы, которые Он ставит перед Иовом, не предполагают ответа. Их главная задача показать, как великолепно и грандиозно Божие творение. Оно исполнено таких явлений и таких сил, постичь которые человеческому уму просто невозможно. Яркий пример — это бегемот и левиафан, описанию которых отведено особое место (см. Иов 40–41). Считается, что в еврейской мифологии так именовались таинственные, нередко смертоносные для людей силы, одна из которых действует на море, другая на суше. На человека эти стихии издревле наводят ужас и благоговение. Они ему неподвластны и непонятны. Однако для Бога что бегемот, что левиафан — любимые детища, домашние питомцы. Они чудо Его творения, часть того мира, который Господь создал и увидел, что все, что Он привел от небытия к бытию хорошо весьма (Быт 1:31).
Так Бог показывает Иову, что ответ на свой вопрос он сможет получить лишь в том случае, если займет место Бога и взглянет на тайны мироздания Его глазами. Лишь тогда, возможно, появится надежда, что ему приоткроется суть происходящего. Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он? Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие; излей ярость гнева твоего, посмотри на всегордое и смири его; взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их; зарой всех их в землю и лица их покрой тьмою. Тогда и Я признаю, что десница твоя может спасать тебя (Иов 40:3–9). Иов должен понять, что человеческое мышление не может быть мерой всех вещей. Он должен перестать надеяться, что с его помощью он сумеет дать прямые рассудочные ответы на все вопросы и заключить необъятную жизнь в удобную рациональную схему, какими бы глубокими эти ответ ни были и какими бы гибкими эти схемы никазались.
Вопросы Бога можно понимать не только как изощренную риторическую стратегию, при помощи которой Господь указывает на несовершенство человека перед величием Творца, подавляет его и просит не лезть туда, куда ему лезть не положено. Эти вопросы звучат в самом сердце праведника, расширяют его духовный кругозор. Вопросами Бог открывает Иову тайны мироздания, приводит в экстатическое состояние, то есть, выводит за пределы ограниченного человеческого ума. Повергает его в изумление. Бог дает Иову возможность взглянуть на этот мир так, как Он Сам смотрит на него.
Монолог Бога подразумевает глубокий мистический опыт, который переживает Иов в этот момент. Это момент личной встречи праведника с Творцом. Господь приближается к нему предельно близко. Иов созерцает Бога непосредственно, так, как раньше не мог Его созерцать, и ясно видит то, что раньше лишь смутно ощущал, что пряталось внутри него где-то очень глубоко. В этом незримом диалоге Господь открывает ему Свой замысел и о его страданиях, и о его судьбе в целом.
Эта сокровенная беседа наполняет душу праведника новым содержанием. Смута уходит. Иов отказывается от своего бунта. Вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои, — произносит Иов (Иов 39:34). Очевидно, что в его сердце приходят мир, тишина и покой. Иов далее сам поясняет причину перемены своего настроения. Обращаясь к Богу, он говорит: раньше яслышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя» (Иов 42:5). Раньше Иов знал о Боге по большей части благодаря священным текстам и со слов других людей. Представления и взаимоотношении с Ним подчинялись в его сознании шаблонным схемам. Теперь же Бог стал для Иова живым инепредсказуемым и очень личным Богом.
Итак, ответ, который дает Книга Иова на поднятую в ней проблему, остается скрытым от глаз читателя. Но не потому, что книга не хочет нам предложить решения. А потому, что этот ответ принципиально невыразим словесным образом. Какие бы глубокомысленные формулировки мы ни использовали (как, например, это делает Елифаз), это всегда будет лишь наша человеческая мудрость. А это всегда девальвация и оскопление полноты смысла. Подлинным ответом является сам момент встречи человека и Бога. Поэтому Господь и не отвечает на вопросы Иова прямо, поэтому не описывается, что именно переживает Иов и что именно он понимает. Так Книга Иова заявляет нам: ответ услышит лишь тот, кто сам идет путем праведника или прошел его. Он увидит его своим духом, между строк.
Новый Завет не раз подчеркивает эту идею. Так, у апостола Павла читаем: не видел того глаз, не слышало то ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор 2:9). И в другом месте он так описывает свой мистический опыт: был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать (2 Кор 12:2). Об этом же и Книга Иова. Она напоминает нам, что болезненная рефлексия ума, который пытается ответить на «проклятые вопросы», прекращается лишь тогда, когда человек приходит в присутствие Божие. Тогда между человеком и Творцом пропадает дистанция в виде ментальных ограничений и языка. Боль уходит. На душе поселяются мир и покой. Как у апостола Фомы, когда он увидел перед собой воскресшего Иисуса. Приходит такая полнота и ясность, что потребность задавать вопросы и формулировать ответы пропадает. Сам Христос так говорит об этом опыте: …Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас; и в тот день вы не спросите Меня ни о чём (Ин 16:22–23).
И еще об одном следует упомянуть. Теперь всем очевидно, что Иов бескорыстен в своей праведности. Сатана посрамлен. Оказывается, человек может следовать за Богом без надежды на награду. Ведь что может быть бескорыстнее, чем то изумление и духовный восторг, в которые пришел Иов во время встречи с Творцом, и, вступив в которые, он смог отказаться от своих претензий и утешиться в своей боли? Именно на таком опыте богообщения, который открывается порой не в самых внешне благоприятных обстоятельствах, стоит подлинная праведность.
Вместе с этим посрамлен не только сатана. Горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов, — обращается Господь к одному из друзей Иова (Иов 42:7). Их ошибка в том, что они дерзнули выдавать свои представления о Боге и Его Промысле за истину в конечной инстанции. По сути, они претендовали на место Творца.
«Отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира» (Мф 13:35)
Финал Книги Иова весьма примечателен. Он описывает торжество праведника, к которому вернулось все то, что он потерял. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние: у него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц. И было у него семь сыновей и три дочери. И нарёк он имя первой Емима, имя второй — Кассия, а имя третьей — Керенгаппух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода; и умер Иов в старости, насыщенный днями (Иов. 42:10–17).
Однако если понимать этот отрывок строго буквально, то складывается очень странная ситуация. На протяжении всей книги повествование убеждало нас не судить прямолинейно и однозначно о человеке и его отношениях с Богом. Промысл Божий — это тайна, необъяснимая для человеческого ума. И порой, в моменте, нам сложно понять, что именно происходит с человеком. Мы не можем найти внешних подтверждений, которые давали бы нам ясный ответ, является ли это делом рук Божиих, который ведет человека к большей славе, или же это просто буйство враждебных сил и наказание за неведомые прегрешения. Мы не можем знать наверняка, почему и зачем человек прошел тем путем, которым он прошел, и где он в итоге оказался. Отчасти именно поэтому Господь и призывает нас не судить друг друга. Прекрасное высказывание по этому поводу находим у апостола Павла. В одном из своих посланий он убеждает христиан города Коринфа не выносить поспешный суд о людях и о самих себе: не судúте никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога (1 Кор 4:5).

Так вот эта логика нарушается той идиллической картиной, которую нам рисует финал. Оказывается, уже здесь, на земле, Иов получает воздаяние. Оказывается, все-таки есть прямая связь между благоденствием и верой в Бога? И не так уж не правы были друзья Иова? Неужели автор Книги Иова решил так поиграть со своими читателями? Сначала с таким размахом обозначить проблему, развернуть перед нами масштабную драму, а потом словно перечеркнуть все сказанное голливудским хеппи-эндом? Оставить нас в недоумении? Ведь мы вместе с Иовом уже начали видеть глубокую трагедию этой жизни. Мы начали допускать мысль о том, что праведник действительно может умереть смертью, которую, на наш взгляд, заслужил грешник. А грешник может и после своей смерти среди людей пользоваться репутацией праведника. И ведь такое правда бывает. Хорошие люди умирают в безнадеге. А подлецы пользуются благами этой жизни.
Все становится не так однозначно, когда мы обратим внимание на одну особенность финала. В XX веке на нее указывал замечательный мыслитель, филолог и богослов С. С. Аверинцев. Он отмечает резкую смену стиля повествования. «Поразительно, что автор после картин предельной патетики осмеливается кончить книгу в тонах сказочного юмора (чего стоят хотя бы имена трех дочерей!)». Поэтический слог, которым написано основное содержание, сменяется прозаическим, а кроме того, текст содержит в себе иронию. С. С. Аверинцев видит это в именах дочерей, которые с языка еврейского оригинала могут быть переведены как «Горлица» (Емима), «Корица» (Кассия) и «Рожок-с-Притираниями» (Кэрэн-Гапух). Да и несопоставимо то, что пережил Иов, с тем, что он получил. Всего лишь увеличились стада. Все это создает ощущение сюрреалистичности происходящего. Это и порождает двойственность впечатления. Так текст сигнализирует нам, что мы не обязаны воспринимать описанную идиллию строго буквально. В тексте есть определенная степень условности. Он больше похож на икону, нежели на фотографию. Можно также сказать, что финал Книги Иова выдержан в прúточной, сказочной стилистике, что весьма характерно для литературы той эпохи.
В святоотеческой традиции мы можем найти объяснение этой условности. Книга Иова не только книга мудрости. Это еще и пророчество. Иов — прообраз Иисуса Христа. Спаситель тоже прошел через невиданные испытания и страдалневинно. В своих муках на Кресте Он был одинок. Иудейские начальники насмехались над Ним и злословили Его. А ближние не могли все время быть рядом, чтобы полностью разделить с Ним Его боль. Ему предлагали выпить уксус с желчью, полунаркотический напиток, который туманил сознание и притуплял муки. Но Господь отказался. Ему было суждено выпить чашу страданий до дна. Но лишь благодаря этому Он спустился во ад, наполнил его светом Своего Божества, разрушил Его, а потом воскрес. Подобное видим и в Книге Иова. Он также доходит в своей боли до предельной точки, проходит свой ад и встречается с Богом лицом к лицу. Иов приобретает совершено новый духовный опыт и воскресает к новой жизни. Эту пасхальную идею мы и можем видеть в финальных сценах.
Такое высокое, освященное традицией толкование не противоречит и другому — эту двойственность можно объяснить заботой Книги Иова о читателе. Автор остается верен логике всей книги: участь праведника порой печальна. Однако он очень деликатен по отношению к нам. Он не пытается прижать нас к стенке этой правдой. Если мы не готовы до конца следовать этой логике, не готовы полностью перенести ее на свою жизнь, автор не настаивает, и мы видим счастливый конец.
Но дело в том, что все мы проходим путем Иова. Каждый человек в какой-то момент своей жизни — и у кого-то таких моментов немало — встречается с болью, каждый проходит через болезни и оказывается на пороге смерти. В этом смысл Книга Иова: при всем эпическом масштабе описываемых событий, она вполне про наши «обыденные жизни». И главный вопрос, который обращен к нам, не в готовности пройти путем Иова, а в том, готовы ли мы пройти его как Иов, то есть, принять тот факт, что прямых ответов и окончательного утешения не будет до самого конца, и все, что у нас есть, — лишь вера и надежда на милость и благость Творца. При таком понимании книги ее финал — своеобразная ширма. Речь идет скорее о воздаянии в перспективе вечности. О той радости и полноте истины, которые откроются после того, как мы, невидевшие и уверовавшие (Ин 20:29), пройдем своей долиной смертной тени (Пс 22:4), найдем там Бога и вместе с Ним воскреснем к новой жизни.
Иллюстрации сгенерированы с помощью Midjourney