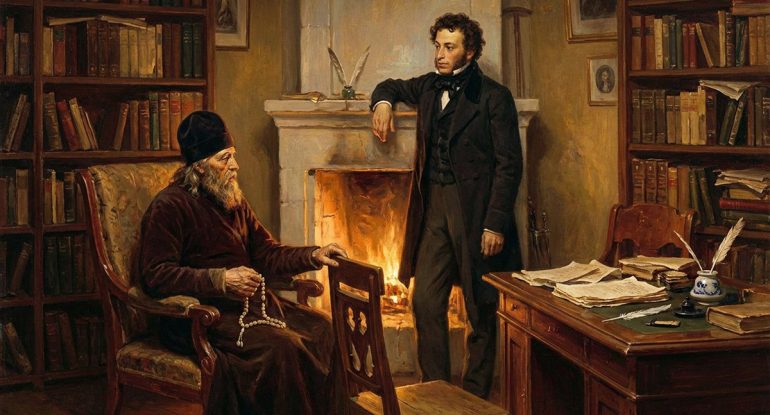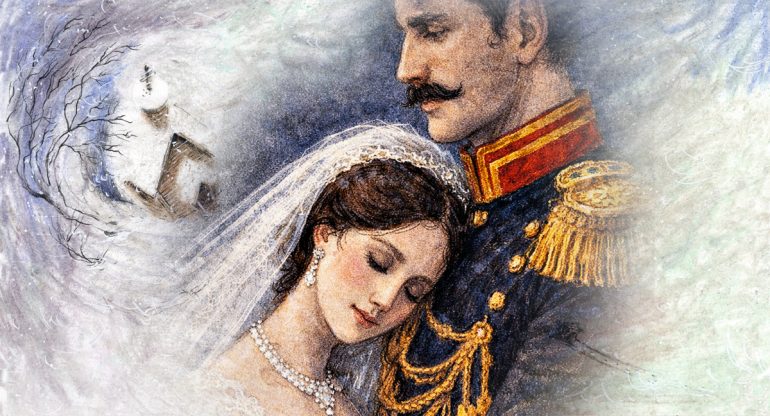«Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина, впервые опубликованный в 1954 году, сразу завоевал огромное читательское признание, да и сейчас, спустя семьдесят лет, остается одной из самых читаемых книг во всем мире. Общим местом стало убеждение, что роман этот глубоко христианский. Но почему? И в каком смысле он христианский? Толкин сознательно закладывал в свой текст христианский месседж или просто возможна такая читательская интерпретация?
Я решил разобраться.
Сам я читал «Властелина колец» в молодости, в начале 90-х годов, еще до крещения. Читал с явным интересом, но фанатом Толкина, в отличие от многих моих сверстников, не стал. Чуть позже, в середине 90-х, я прочитал «Хоббита» и «Сильмариллион», а затем на десятки лет мир Средиземья как-то выпал из моих интересов. И вот недавно решил перечитать. Я вообще люблю перечитывать книги, понравившиеся мне в юности. Сейчас ведь смотришь на них другими глазами, замечаешь то, что раньше не замечал, да и не мог заметить в те давние годы.
Дошла очередь и до «Властелина колец». Мне захотелось разобраться, оправданно ли это всеобщее убеждение, будто роман насквозь христианский? Или это всеобщая иллюзия, основанная на убеждении, будто все произведения верующего писателя (а Толкин был верующим католиком) априори религиозны?
Тут по законам жанра следовало бы потянуть интригу, но скажу сразу: да, «Властелин колец» — это действительно христианская книга. Только теперь я могу это обосновать.
Но что значит «христианская книга»? О чем идет речь? О том ли, что созданный писательским воображением мир Средиземья — это мир христианский? То есть мир, созданный Богом-Творцом (причем Бог троичен), мир, в котором произошло грехопадение и в котором Бог воплотился, умер и воскрес, чтобы спасти человечество? Такой мир, например (с известными оговорками и с поправками на особенности литературной сказки) показан в цикле Клайва Льюиса «Хроники Нарнии».
Или же речь о другом — о том, что этика, которой руководствуются герои, полностью совпадает с христианской этикой? О том, что герои ведут себя так, как в аналогичных обстоятельствах вели бы себя всерьез верующие христиане?
Сразу поясню, что в этой статье я основываюсь только на самом тексте «Властелина колец» (который я перечитал в переводе Муравьева и Кистяковского — хорошем в смысле литературного качества, но не слишком точном). Я сознательно не стал привлекать ни «Сильмариллион» (который вообще можно было бы назвать «священной историей» Средиземья), ни многочисленные письма Толкина, (где он разъяснял детали своего замысла). Не стал я читать и научную литературу, посвященную творчеству Толкина. Почему?
Потому что поставил перед собой задачу взглянуть на этот роман глазами человека, который не читал других книг Толкина, не погружен в тему. Вот что он увидит в тексте? Какие у него возникнут вопросы, на которые в самом тексте он ответов не найдет и которые потребуют чтения других книг?
Мир Средиземья — это не христианский мир
Более того, на первый взгляд это вообще мир без религии. Действительно, там нет каких-то сложившихся представлений о сверхъестественных силах. Хоббиты, глазами которых мы и воспринимаем ход событий, о таких вещах не задумываются. Не задумываются и гномы, и лишь в эльфийских сказаниях есть какие-то проблески воспоминаний о богах (не о едином Боге, замечу).
Например, «Вардой называли живущие в Средиземье эльфы Предвечную Владычицу Заокского Края — Элберет». Предвечная Владычица — это, надо понимать, богиня? «Да хранит тебя Элберет, о Фродо, сын Дрого!» — говорит эльф Гаральд. К ней взывают в минуту опасности: «Внезапно путников охватил страх. — О Элберет! Гилтониэль, — вскидывая голову, прошептал Леголас».
Тем не менее в обычной жизни примет религии не то чтобы совсем нет, но крайне мало. Так, например, Фарамир, сын гондорского правителя, объясняет хоббитам: «Перед трапезой, — сказал он, садясь, — мы обращаем взор к погибшему Нуменору и дальше на запад, к нетленному Блаженному Краю, и еще дальше, к Предвечной отчизне». И это, пожалуй, всё.
Нет в Средиземье ни храмов, ни священников или жрецов. А чего еще нет — и это совсем уж удивительно! — нет представлений о посмертии. Не думают о нем хоббиты, не думают гномы, да и люди, те же гондорцы, не думают. В книге есть очень характерный эпизод — похороны Боромира, старшего брата Фарамира и, можно так сказать, наследного принца. Оплакивая его, поют ритуальные песни, но в них совершенно ничего не говорится, что покойный продолжает жизнь в ином, загробном мире. В песнях подчеркивается его доблесть, перечисляются его подвиги, но и только.
Лишь одно исключение видим из этого правила: маг Гэндальф, погибнув в схватке с огненным демоном в пещере Мория, был возвращен вышними силами (не уточняется какими) в мир Средиземья. Вот как он сам об этом рассказывает: «Но тьма объяла меня, и я блуждал в безначальном безвременье, путями, тайна которых пребудет нерушима. Нагим меня возвратили в мир — ненадолго, до истечения сроков». Кто же его возвратил? Чуть раньше, в миг битвы с демоном Барлогом, он представляется: «Я служитель вечного солнечного пламени, — все так же негромко продолжал Гэндальф, — и повелитель светлого пламени Анора». То есть возникает еще и Вечное Солнечное Пламя? Вряд ли это то же самое, что Предвечная Владычица Элберет.
Получается картина, весьма похожая на язычество: есть разные сверхъестественные существа (там они не называются богами, вообще слова «бог» ни в единственном, ни во множественном числе в тексте нет), отношения между ними неизвестны. То есть возникают вполне очевидные теологические вопросы, ответов на которые в тексте «Властелина колец» нет. Частично ответы появляются в другой книге Толкина, «Сильмариллионе» (работать над ней он начал задолго до «Властелина колец», еще в 1914 году, многократно переписывал, а издана она была в 1977 году, уже после его смерти).
Но в романе эти немногочисленные отсылки к языческой мифологии все равно «погоды не делают», культура Средиземья не только не христианская, но даже если и языческая, то в микроскопических дозах. В целом же это вполне внерелигиозный мир.
А почему? Хотя лучше поставить вопрос — зачем?
Игра на контрасте
Вряд ли это случайно. Вспомним, что к тому моменту, когда Толкин начал писать «Властелина колец» (конец 1930-х годов), он уже подробнейшим образом разработал мифологию Средиземья, и потому для него никакого труда не составило бы насытить ею текст. Но писатель пошел другим путем.
А именно — путем иносказания. Свою сверхзадачу он выразил так: «объяснить истину и поддержать нравственность в нашем реальном мире». Какую истину? Какую нравственность? Учитывая, что Толкин был католиком, причем не номинально, а по внутренним убеждениям, ясно, что речь именно об истине христианства и христианской нравственности. Ремарка: вероучительные различия между католицизмом и православием отставим в сторону, к нашей теме они отношения не имеют, духовный посыл «Властелина колец» — это общая основа всех христианских конфессий.
Но если писатель-христианин ставит себе такую задачу, то решить ее можно лишь двумя способами. Причем способами, друг с другом несовместимыми. Либо напрямую говорить о Христе, о Евангелии, не просто даже внедряя их в ткань повествования, а выстраивая сюжет на этой основе. Как, например, Достоевский в «Братьях Карамазовых». Либо использовать прием иносказания, когда создаются декорации, вроде бы не имеющие никакого отношения к христианству, но в этих декорациях разворачивается христианская по своей сути драма. То есть, по Пушкину, «сказка ложь, да в ней намек». И «Властелин колец», на мой взгляд, именно этот случай.
Мир, в котором происходит действие, действительно не слишком-то похож на мир, каким его видит христианин. Но вот мотивации и поступки многих героев (Фродо, Сэма, Гэндальфа, Арагорна и других) — вполне христианские. То есть ведут они себя так, как в аналогичных обстоятельствах вели бы себя глубоко и сознательно верующие христиане.
И получается контраст между миром и героями. Этот контраст, по-моему, используется как прием, причем вполне успешно. Именно несоответствие между поступками героев и тем фоном, на котором происходит действие, как раз и заставляет читателя задуматься и попытаться перевести авторский посыл на язык христианского вероучения.
Христианские смыслы
Чтобы увидеть эти смыслы, придется, пускай и предельно кратко, вспомнить сюжетную канву.
В Средиземье в описываемые времена набирает силу так называемый Темный Властелин — демон по имени Саурон. Причем даже в тексте «Властелина колец», без отсылок к «Сильмариллиону», упоминается, что демон не совсем чтобы прямо сатана. Как говорится, труба пониже и дым пожиже. Главный демон, Моргот (он же Мелькор), повержен давным-давно, а этот, Саурон, был у него на подхвате. И вот постепенно усилился и собирается захватить весь мир. Но для этого ему необходим некий созданный им артефакт, Кольцо Всевластья. А Кольца он лишился давным-давно, в одной из битв. Оно, Кольцо, долго считалось безвозвратно утерянным, но в итоге его нашли. Сперва полухоббит Смеагорл (более известный читателю как Горлум), затем Кольцом завладел хоббит Бильбо (главный герой повести «Хоббит, или Туда и обратно»), который позднее передал его своему племяннику Фродо.
И вот перед Фродо встает задача спасти мир. Для этого ему нужно принести Кольцо к вулкану Ородруину и сбросить его в жерло. Только так можно уничтожить эту опаснейшую штуку (которую активно разыскивает злодей Саурон). Фродо отправляется в путь не один, в помощь ему придается команда «хранителей». Собственно, на выполнении этой труднейшей миссии и строится сюжет.
И главная линия сюжета (главная если не в событийном, то в смысловом отношении) — это история Горлума. Он, этот подлый, злобный, трусливый, коварный Горлум, сам о том не подозревая, становится орудием Промысла Божия. Да, слов таких в тексте нет, а Промысл есть.
Где же тут Промысл?
Дело вот в чем: Кольцо Всевластья — это не просто магический артефакт. Это, можно сказать, сам злодей Саурон в миниатюре. То есть предмет, у которого есть не только волшебные свойства, но и собственная воля, собственный разум. У Кольца есть цель — вернуться к своему создателю, Саурону, и для этого оно выстраивает хитроумные планы. Оно способно в значительной мере подчинять себе сознание своего носителя. Оно становится для носителя сверхценностью, причем чем дальше, тем больше. Смеагорла-Горлума оно подчинило мгновенно, а вот хоббиты Бильбо и особенно Фродо — другое дело, они поддаются слабее. Но все равно поддаются, и поэтому сама задача, поставленная перед Фродо светлыми силами (то есть эльфами и магом Гэндальфом) неразрешима. Чтобы уничтожить Кольцо, его хранитель должен добровольно бросить его в жерло вулкана. Но Кольцо-то подчиняет себе волю хранителя, и, когда Фродо наконец добирается до цели, происходит страшное и закономерное: Кольцо побеждает его, подчиняет себе, он торжественно объявляет себя хозяином Кольца. То есть все насмарку.
Но, как известно, невозможное человекам возможно Богу. Появляется Горлум, охотившийся за своей «прелестью», в драке откусывает у Фродо палец с Кольцом и... и, оступившись, падает вместе с добытой наконец «прелестью» в раскаленное жерло вулкана.
То есть: без Горлума ничего бы не получилось. Человеческий план (ну ладно, не только человеческий, а еще и эльфийский) изначально содержал неустранимый дефект. И не потому, что Фродо плох. Никто бы на его месте — ни глава эльфов Элронд, ни Гэндальф, ни Арагорн — не смог бы преодолеть соблазн.
Но вот если добавить в это нерешаемое уравнение Горлума...
В том-то и заключался Промысл: Горлум — единственный, посредством кого можно уничтожить Кольцо. Я специально написал «посредством кого», а не «с чьей помощью» — потому что сам-то он как раз уничтожать Кольцо не хотел, он хотел владеть им безраздельно.
Значит, Горлум нужен. Но чтобы тот сыграл свою роль в финале, его нужно было до финала сохранить живым. А всем очень хотелось пришибить эту мерзкую тварь. Не пришибли, однако же, потому что нравственное чутье этому препятствовало. Ни Фродо, ни Сэм — более прочих от него пострадавшие — и не подозревали, как в итоге Горлум пригодится. Нет, они были уверены, что это гнилое создание только вредит их миссии, представляет очевидную угрозу. И все-таки милосердие оказалось сильнее трезвого расчета.
Если кто и чувствовал Промысл, так это Гэндальф. Вот что он отвечает Фродо, который в начале всей этой истории недоумевает, зачем проявлять к Горлуму милосердие: «Мало, очень мало надежды на исправление Горлума, но кто поручится, что ее вовсе нет? Судьба его едина с судьбою Кольца, и чует мое сердце, что он еще — к добру ли, к худу ли — зачем-то понадобится». Но и у Гэндальфа это пока что смутное предчувствие, а не точное знание. Тем более остальные. Раз за разом щадя Горлума, они поступают глупо, наивно, неразумно. В итоге их неразумие спасает мир.
Это же абсолютно христианская идея! Промысл Божий — тема сложная, но, если совсем уж по-простому объяснять, это план по спасению человечества. Всех вместе — и каждого в отдельности. Такая совокупность Божиих действий, которые, не нарушая ничью свободу воли, способствовали бы спасению. Не со стопроцентной гарантией, конечно, потому что опять же свобода воли. Бог не только хочет, чтобы все спаслись, Он делает для этого все необходимое. Так влияет на события, создает такие причинно-следственные цепочки, чтобы в итоге спаслись все, кто этого действительно хочет. Но план этот настолько сложен, настолько многомерен, что человеческий ум его постичь не в силах. Отсюда и знаменитое «пути Господни неисповедимы». Верующий христианин не знает в деталях, каков именно план Божий по спасению как человечества, так и лично его самого. Он просто доверяет Богу и живет по Его заповедям.
Более того, Промысл Божий (точнее, какая-то отдельная его составляющая) может человеку неверующему казаться чем-то глупым, нелепым, нерациональным. Вот, по логике вещей, Богу следовало бы послать исцеление больному человеку, умертвить жестокого тирана, обеспечить высокий урожай озимых и так далее. Но Бог действует по Своему плану, а не по плану, составленному человеком. Пускай даже очень умным и очень добросердечным человеком.
Вот именно так (не называя вещи своими именами) показывает Толкин во «Властелине Колец» Божий Промысл. Все герои действуют совершенно свободно, руководствуясь собственными желаниями, мечтами, страхами, представлениями о должном и недолжном. Разными представлениями, замечу. А внешние обстоятельства далеко не всегда от действий героев зависят, но, оказавшись в этих обстоятельствах, герои могут поступать так, а могут этак. В итоге оказывается, что именно их правильные действия в данных им обстоятельствах и обусловили победу над злом.
Речь не только о Фродо и Сэме, дотащивших Кольцо до горы Ородруин. Они смогли это сделать еще и потому, что войска Саурона почти все были стянуты в другом направлении — сперва штурмовали героически оборонявшееся княжество Гондор, потом собирались расправиться с Арагорном и его сподвижниками, решившимися на отчаянную, практически самоубийственную вылазку к воротам Мордора. Ни у Арагорна, ни у Гэндальфа не было особых надежд на то, что миссия Фродо увенчается успехом. Они вполне понимали, что, скорее всего, погибнут, вступив в бой с многократно превосходящими их силами врага. Но понимали и то, что если своей «безрассудной» смертью они дадут Фродо шанс, то гибель их будет оправданна. А если и нет, если миссия не увенчается успехом и Саурон поработит весь мир, то зачем им жить в таком мире?
А в результате получилось именно то, что нужно. Герои доверяли своему внутреннему чувству, нравственному компасу, можно сказать. Они просто верили, что вот так поступать следует, а так — нет. То есть, говоря языком христианского богословия, они доверились Богу, добровольно стали орудиями Его Промысла, и для этого им вовсе не нужно было весь Божественный план знать. Достаточно было просто делать, что дóлжно, наперекор прагматическим соображениям.
А еще Промысл Божий включает в себя и злые дела злых людей — вернее, неожиданные для самих злодеев последствия их поступков. Так, например, предатель Саруман, бывший глава Светлого Совета, строит козни, пытаясь сам завладеть Кольцом Всевластья, а в результате его действий главный злодей, Саурон, оказывается введен в заблуждение и совершает ошибки, ставшие в итоге для него фатальными.
Но Промысл Божий — вовсе не единственная христианская идея, звучащая в романе. Еще есть, например, тема соблазна.
От прилога до пленения
Соблазн в христианском понимании — это некое желание, которое поселяется в человеческой душе, и чем дальше, тем больше разрастается, захватывает волю и перенаправляет ее с действительно важного (то есть любви к Богу и к людям) на иные цели. Эти иные цели вовсе не обязательно выглядят чем-то чудовищным (во всяком случае, поначалу). Например, коллекционер очень хочет заполучить старинную монету в свою коллекцию. Он не хочет лить кровь и причинять кому-то страдания, ему только эта монета нужна, все его мысли о ней, все прочие дела уже побоку, и чем дальше, тем мучительнее ему мысль о том, что у него этой монеты пока нет, что она принадлежит кому-то другому. Монета становится, как это называют психологи, идеей фикс. Да, есть вероятность, что он опомнится, избавится от наваждения и потом будет его вспоминать как страшный сон. Но ничуть не меньше (а, как правило, гораздо выше) вероятность, что рано или поздно наш гипотетический коллекционер решит, что монету надо добыть любой ценой. Даже кровавой.
Отцы Церкви в своих трудах детально исследовали, как происходит такое повреждение души. Начинается все с невинной, казалось бы, стадии — так называемого прилога. То есть мысли, возникающей в голове. Просто мысль, человек еще никак к ней не относится. И он, разумеется, не виноват, что у него появилась такая мысль. Вторая стадия называется помысл, когда человек эту возникшую у него мысль начинает всячески обдумывать, рассматривать, когда она начинает уже вызывать у него интерес, когда он начинает видеть в ней некие плюсы. Третья стадия, склонение (или, иначе, сочетание) наступает тогда, когда помысл полностью завладевает его сознанием (все мысли только о вожделенной монете, если взять пример с нумизматом). Но мало того, помысл завладевает не только сознанием, но и волей. Пока еще не всецело, а лишь частично. Хорошая иллюстрация — в «Преступлении и наказании» Достоевского, где детально показано, как идея убить старушку-процентщицу постепенно развивается в уме у Раскольникова. И наконец, четвертая стадия, пленение, наступает тогда, когда воля уже всецело захвачена помыслом, когда все остальное человеку уже не важно, когда разрушены все имевшиеся моральные барьеры и он готов достичь цели любой ценой. И не только ум, не только воля в плену, но и все чувства, эмоции, и даже тело.
Именно это и происходит во «Властелине Колец» со всеми, кто тем или иным способом завладел Кольцом Всевластья. Оно становится соблазном не только для Горлума, но и для Бильбо, и для Фродо. И даже для тех, кто вообще к Кольцу не прикасался, лишь знал о нем и находился рядом, например гондорского наследника Боромира.
Но если Бильбо, Фродо и Сэму (который несколько часов вынужден был хранить Кольцо) хватило внутренней силы, чтобы соблазн не перешел в третью стадию, то Боромир и Горлум не справились. Особенно Горлум, который и изначально-то не отличался крепостью духа, а уж с того момента, как завладел Кольцом... Горлум — пример полной, стопроцентной духовной гибели. Хотя, между прочим, Гэндальф видел крошечный шанс: «Мало, очень мало надежды на исправление Горлума, но кто поручится, что ее вовсе нет?»
И это, кстати, очень христианская мысль, богословски обоснованная. Пока человек жив, у него остается возможность покаяния, у него остается пускай мизерная, но свобода. Бог завершает земную человеческую жизнь лишь тогда, когда либо человек подготовил свою душу к пребыванию в вечности лицом к лицу с Богом (и это мы называем раем), либо когда исчерпаны уже все возможности и дальше не станет лучше. Именно поэтому, кстати, и нельзя убивать «ради пользы дела».
Фродо задает Гэндальфу недоуменные вопросы:
«А тебя просто не понимаю. Неужели же ты, эльфы и кто там еще — неужели вы пощадили Горлума после всех его черных дел? Да он хуже всякого орка и такой же враг. Он заслужил смерть».
И вот что отвечает Гэндальф:
«Заслужить-то заслужил, спору нет. И он, и многие другие, имя им — легион. А посчитай-ка таких, кому надо бы жить, но они мертвы. Их ты можешь воскресить — чтобы уж всем было по заслугам? А нет — так не торопись никого осуждать на смерть».
Обратим внимание на это слово «воскресить», имеющее смысл только в христианской картине мира и совершенно неестественное в мире Средиземья. Здесь оно воспринимается как та самая игра на контрасте, о которой шла речь выше. Но справедливости ради замечу, что «воскресить» — это в переводе Владимира Муравьева, а в оригинале сказано нейтрально: «And some that die deserve life. Can you give that to them?» (дословно: «А многие умершие заслуживают жизнь. Ты можешь дать им это?»)
Но вернемся к теме соблазна. Она в романе фигурирует не только в сюжетной линии, связанной с Кольцом Всевластья. Есть и другие соблазны. Например, соблазн избежать ответственности, которому долгое время поддавался ристанийский конунг Теоден, попав под влияние своего советника (а на деле вражеского агента) Гримы Гнилоуста. Тот фактически правил государством от имени Теодена, а старик медленно и «комфортно» впадал в деменцию. Но, однако же, сумел (пусть и с помощью Гэндальфа) преодолеть этот соблазн. Здесь тоже важный момент — иногда соблазн доходит до той стадии, когда человек уже неспособен справиться с ним самостоятельно, но еще не дошел до того, что и помощь других оказывается бесполезной.
Такое в романе случилось с другим правителем, Денэтором, местоблюстителем гондорского княжеского престола. Тот соблазнился палантиром, магическим устройством, позволяющим видеть то, что происходит далеко-далеко, и не просто видеть, а связываться с другим аналогичным устройством. Напомню, что «Властелин Колец» опубликован в 1954 году, смартфонов еще не было.
На самом деле соблазн, конечно, заключался здесь не в самом устройстве, а в горделивой уверенности Денэтора, что посредством палантира он сможет противостоять Саурону, подавить своей железной волей его стальную волю. И тут болезнь зашла настолько далеко, что даже помощь Гэндальфа оказалась бесполезной. Так и погиб Денэтор, фактически, совершив самоубийство и едва не убив вместе с собой своего сына Фарамира.
То есть мы видим в романе разные примеры того, как человек поддается соблазну, какими разными эти соблазны могут быть, но соблазн — это духовная болезнь, на ранних стадиях вполне излечимая, да и на поздних какие-то шансы на исцеление все равно остаются, хотя чем дальше, тем их меньше. И это все совершенно христианский взгляд на мир и на человека. Причем, подчеркну, общехристианский, конфессиональные различия начинаются на более высоких уровнях.
Но вот чего нет и не может быть в романе, до чего читатель должен додуматься самостоятельно: чтобы преодолеть захвативший душу соблазн, может не хватить ни собственных сил, ни сил других людей, однако помочь может Бог. К Богу взывает человек, попавший в плен к соблазну. Взывает той частью своей души, которая пока еще жива.
И это очень важный момент: написанное христианином художественное произведение не должно подменять собой Священное Писание и духовную литературу. Оно не должно давать ответы на все вопросы жизни и рецепты, как поступать в любых обстоятельствах. Его задача — дать читателю исходный импульс, подтолкнуть его в правильном направлении. А дальше уже читатель движется в этом направлении в своей реальной жизни.
Наконец, третья христианская тема, звучащая в романе, — это тема благодати Божией.
Что такое благодать?
В обыденном нашем языке это синоним чего-то очень хорошего, приятного, красивого. «Какая здесь благодать!» — говорим мы, любуясь прекрасным пейзажем. Но на самом деле в христианстве слово «благодать», благодать Божия — это действие, которое совершает Бог. И совершает, чтобы помочь человеку стать лучше, преодолеть трудности на пути следования Его воле. Поэтому буквальное понимание благодати как данного нам блага довольно точно. Обретая (стяжая, если употреблять традиционный церковный оборот) благодать, мы получаем от Бога некую силу, восполняющую нашу человеческую слабость. С какой целью получаем? Чтобы суметь выполнить то, чего Бог от нас хочет, и выполнить в тех обстоятельствах, в которых наших собственных сил не хватает.
Посмотрим с этих позиций на «Властелина Колец».
Прежде всего надо говорить о Фродо (по сути, главном герое книги). Кто он такой? Обычный хоббит, не обладающий никакими сверхспособностями и достоинствами. Он не так умен и образован, как маг Гэндальф, не так силен, как доблестный витязь Боромир, не так смел, как Арагорн. «А храбрость откуда я возьму? — спросил Фродо. — Мне очень страшно, и храбрости вот-вот не хватит».
Однако именно на него возложена миссия уничтожить Кольцо Всевластья. Почему на него? Значит, есть в нем что-то такое, незаметное стороннему взгляду, что делает его способным выполнить миссию. Но в процессе выполнения возникают ситуации, когда своих сил явно недостаточно. Толкин изображает этот момент так, словно в герое действуют какие-то иные, высшие силы. И это образно сближает его с тем, как описывается благодатное действие в христианстве.
Вот, например, схватка с назгулами (демонами, проще говоря): «А Фродо, упав наземь, сам не зная почему, вдруг вскричал: “О Элберет! Гилтониэль!” — и ударил кинжалом в ногу подступившего врага».
Обратим внимание на это «сам не зная почему». А вот еще более характерный момент — схватка с паукообразным чудовищем Шелоб, когда он вспомнил про дар эльфийской владычицы Галадриэль: светящийся фиал. «Айя Эарендил Эленион Анкалима! — воскликнул он, не ведая, что значат и откуда взялись эти слова, ибо иной голос говорил его устами, голос ясный и звонкий, пронизавший смрадную тьму». Случайно или нет в этот момент Толкин почти повторяет слова апостола Павла из Послания к Римлянам: Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Рим 8:26).
Благодать Божия действует разными способами. Это и стечение внешних обстоятельств, и помощь друзей, и вот такая неожиданная внутренняя сила, как в приведенных примерах.
Но благодать не только помогает человеку выполнять должное. Она еще и самого его меняет, преображает, и это становится заметно со стороны. «Он вдруг вспомнил, как Фродо все спал и спал в доме Элронда, оправляясь от смертельной раны. Тогда Сэм почти не отлучался от его постели и заметил, что он как-то вроде бы светится изнутри. Теперь-то уж точно светился. Ни страха, ни озабоченности не было в лице Фродо, красивом и постаревшем, точно минули не месяцы, а многие годы. Оно не изменилось, но тонкой сетью проступили на нем бесчисленные морщинки».
Действительно, Фродо сильно меняется на протяжении действия романа. Уходят наивность, импульсивность и дурашливость, появляются мудрость, смирение, терпение.
Но (и в этом тоже христианский урок «Властелина Колец») даже высочайший духовный уровень не становится гарантией безгрешности. Дойдя до огнедышащей горы Ородруин, до самого его жерла, Фродо все же ломается, Кольцо завладевает его волей, он объявляет себя его хозяином — и быть бы ему новым Темным Властелином, не окажись рядом исстрадавшийся по своей «прелести» Горлум. Между прочим, «злодей № 2», маг Саруман Белый, когда-то был действительно светлым и мудрым, по праву занимал пост главы Светлого совета — просто его падение случилось задолго до описанных во «Властелине Колец» событий.
То есть никогда нельзя быть уверенным, что теперь-то ты уже точно спасен, что достиг столь высокого духовного уровня, что больше никогда не согрешишь. Нет, пока ты жив — ты свободен, а значит, можешь распорядиться своей свободой неправильно. Вероятность вовсе не нулевая.
За рамками романа, или Темная проекция «Властелина Колец»
Может сложиться впечатление, что роман Толкина дает нам совершенно христианскую картину (не в сюжетном, а в смысловом отношении). Что нет в этой бочке меда никакой ложки дегтя.
Увы, деготь есть. Только не в самом романе, а в том влиянии на мировую культуру, которое он оказывает уже более семидесяти лет.
То, о чем я сейчас буду говорить, относится уже не к тексту, а к его восприятию.
Главная же ловушка восприятия — в созданном воображением Толкина мире Средиземья многие читатели видят некую систему координат для осмысления событий нашего реального мира. И некритически переносят художественную модель на реальность, в результате чего приходят к выводам, крайне далеким от христианского отношения к миру и к человеку.
Поясню. Суть «Властелина Колец» — борьба Добра и Зла, борьба не только земная, но и метафизическая. Саурон, Темный властелин, это не просто очень плохой человек, кровавый диктатор и так далее. Это не человек вообще, это демон, и силы, служащие ему, не только человеческие. С другой стороны, Добро хоть и не персонифицировано, то достаточно четко обозначено. На стороне Добра эльфы, маг Гэндальф, гном Гимли, разумные деревья-онты, люди-дунаданцы, люди-ристанийцы и люди-гондорцы. То есть граница между метафизическим добром и метафизическим злом прочерчена очень четко. Есть наши (хорошие) и есть силы тьмы (плохие).
Это вполне работает в рамках романа, это необходимые декорации, это та сказка, в которой можно найти намек. Но это — не сам намек.
В реальной жизни, разумеется, все куда сложнее. Добро и зло есть. Верно и то, что у земных, посюсторонних проявлений того и другого, есть метафизические источники. Есть Бог, есть дьявол, есть люди, которые в своих поступках склоняются то к одному, то к другому. Но нет такой четкой демаркационной линии, как во «Властелине Колец». Граница между добром и злом проходит не по политической карте мира и даже не между теми людьми и этими людьми. Она проходит внутри каждого человеческого сердца, причем постоянно смещается то так, то этак. Люди грешат, но люди и каются. Человек, поступающий дурно сейчас, может измениться к лучшему в будущем. И наоборот, сегодняшний герой может завтра стать негодяем. То есть, несмотря на то, что используются лишь две краски, черная и белая, картина получается крайне сложная, распределение света и тьмы не зафиксировано жестко, оно меняется в каждой точке и в каждый момент времени.
Но многие, взявшие за точку отсчета «Властелина Колец», этого не понимают. Для них все просто. Наших, хороших, они отождествляют с эльфами (не буквально, но образно), а «ихних», плохих, с орками. Своим прощается всё (они же на светлой стороне!), а чужие расчеловечиваются. И это вполне логично: стоит отождествить кого-то с орками, то есть с нелюдями, и это быстро войдет в привычку, и людей с той стороны ты рано или поздно (а скорее рано) начнешь расчеловечивать. То, что было сперва только метафорой, начинает восприниматься как правда жизни. Они не люди, а орки. Биологический мусор. Их не жалко.
Подчеркну, что такое вот использование «Властелина Колец» встречается в самых разных политических лагерях. Это мировой бестселлер, все мало-мальски образованные люди читали, ну или, по крайней мере, смотрели трилогию Питера Джексона. Поэтому противопоставление «мы-эльфы и они-орки» — универсально.
Это, разумеется, не только с романом Толкина случилось. Если во всемирно известном произведении центральная тема — борьба добра и зла, то его обязательно начнут использовать для расчеловечивания «неправильных». О чем говорить, если даже Библию в минувшие века умудрялись использовать для оправдания расизма!
Разумеется, Джон Р. Р. Толкин в этом не виноват. Он писал свой роман для того, чтобы, по его же словам, «объяснить истину и поддержать нравственность в нашем реальном мире». Вряд ли ему могло прийти в голову, что спустя десятки лет после его смерти кто-то начнет использовать «Властелина Колец», чтобы обосновать свое священное право на ненависть.
Да, ложка дегтя есть. Причем не в самой бочке меда (если под бочкой понимать текст романа), а рядом с бочкой.
Но если что-то можно извратить, отсюда не следует, что это «что-то» нельзя понять правильно. Можно. Я попробовал, и до меня многие пробовали, и после меня другие попробуют. И получится. В тексте есть всё для этого необходимое.