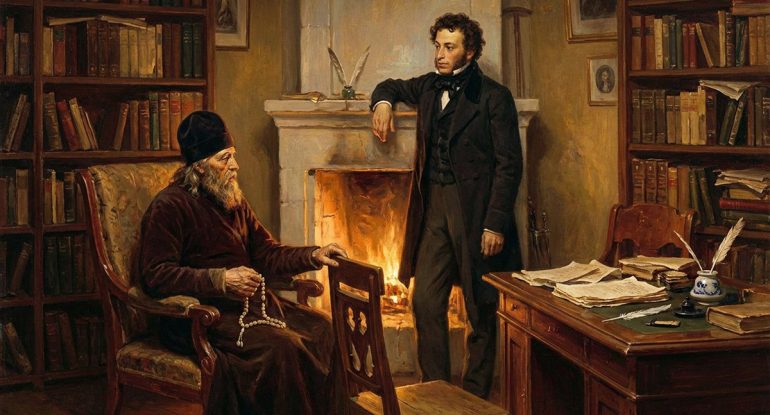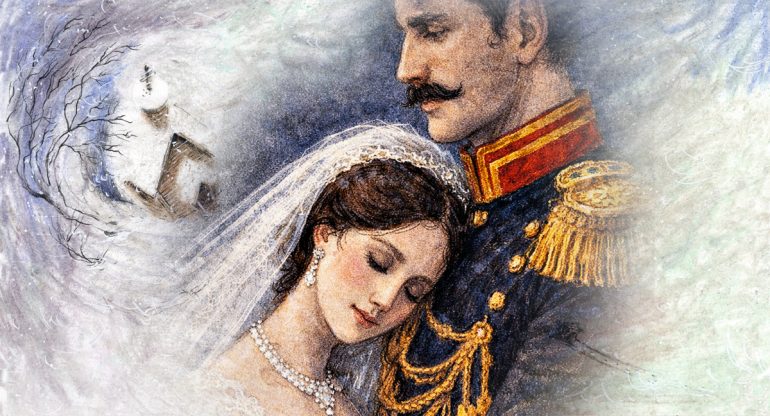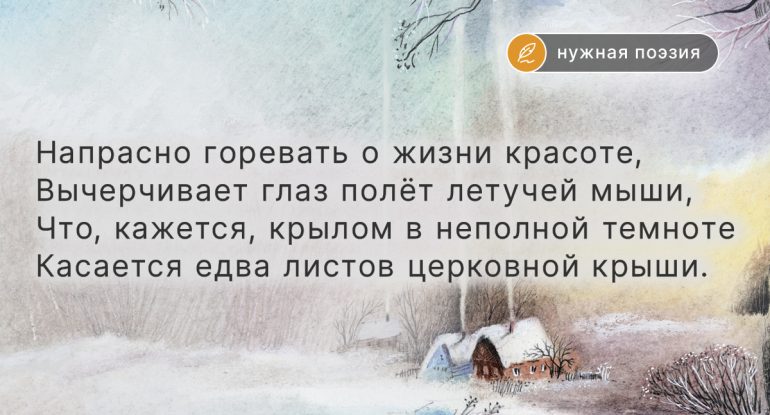В 1878 году Достоевский внезапно теряет трехлетнего сына. Сороковой день со дня смерти Алеши писатель проводит в Оптиной пустыни. Он приезжает всего на двое суток, но встречи с преподобным Амвросием Оптинским производят на него глубочайшее впечатление. В «Братьях Карамазовых» нашло отголосок многое из прожитого и прочувствованного им тогда.
С тех пор прошло почти 150 лет, но Оптина пустынь остается местом утешения и надежды для всех приходящих.
И неслучайно, что именно здесь ежегодно проходят «Дни Достоевского в Оптиной пустыни». В этом году с 11 по 13 июля в Оптиной и ее окрестностях снова — встречи с интересными людьми, дискуссии о культуре и искусстве, тематические кинопоказы и многие другие мероприятия, в том числе с участием Академии журнала «Фома».
Накануне события мы попросили его участников ответить на вопрос: какой фрагмент из произведений Достоевского по-особому задевает их душу?
* * *

Алехандро Ариэль Гонсалес
Президент Аргентинского общества Достоевского. Фото Медиакорпорации «Калуга Сегодня» znamkaluga.ru
На мой взгляд, самая мощная сцена в произведениях Достоевского — это диалог или, вернее, изображение невозможности завести диалог Подпольного человека с Лизой. Когда она, не обращая внимания на его слова, понимает, что он страдает, и тянет к нему руки. Она проявляется не как собеседник, не как слушатель — а как ближний. И здесь ключевой момент в творчестве Достоевского. Можно сказать без преувеличения, что пять больших романов Достоевского не что иное, как попытка найти решение для проблематики «подполья» и его обитателя. Другими словами, эта сцена является зерном всего дальнейшего творчества писателя. Немой поступок Лизы и невозможность парадоксалиста ответить на него открывает нам трагизм современного человека.

Елизавета Арзамасова
Актриса, певица, телеведущая. Фото Ольги Лесли
Мне сложно говорить о «фрагментах». Я актриса. Мне радостно от того, что я имею возможность не просто читать, а подробно работать с полными произведениями. Простор для поисков смыслов Федор Михайлович оставил нам большой. И не только в художественных произведениях. Несколько лет подряд я играла в Театре Наций спектакль «Зимние заметки о летних впечатлениях» — по публицистике Федора Михайловича. Каждый абзац — современность, не иначе! И это потрясает. Весной в Алтайском государственном театре драмы состоялась премьера спектакля «Идиот», в котором я, как ни странно, сыграла князя Мышкина, а точнее (по задумке режиссера) — его бесполую душу. Для меня Мышкин — абсолютный воин Света, и каждый его большой монолог — трансляция этого самого света, любви к людям и Богу, веры в доброе в человеке.

Павел Тугаринов
Востоковед, ст. научный сотрудник Государственного музея истории религии. Фото Александра Мотылева
В акте имянаречения, доверенного Богом Адаму, проявляется фундаментальный принцип — творческая свобода, через которую человек раскрывает свое подобие Творцу. Этот библейский сюжет можно интерпретировать как архетип формирования культуры: наделяя мир именами, человек не просто классифицирует реальность, но участвует в ее преображении, утверждая тем самым свою сопричастность Логосу. В русле этой логики слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» приобретают особое значение: «Любите всё создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах». Для меня, как музейщика, эти слова звучат особенным образом. Призыв любить «всякую вещь» как откровение Божественной тайны раскрывает онтологическую ценность материального мира. В культурном измерении этот принцип трансформируется в отношение к наследию как к носителю сакрального смысла. Музей в таком контексте — не «кладбище вещей», а пространство диалога, где материальная форма становится посредником в вопрошании о вечном.

Евгений Князев
Народный артист России, актер, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина. Фото с сайта Евгения Князева eknyazev.ru
Мне откликаются воспоминания старца Зосимы из «Братьев Карамазовых», когда он рассказывает о своем приходе в храм, о соприкосновении с верой и о том, как он ее чувствовал. Считается, что образ героя из романа Достоевского списан со старца Амвросия Оптинского. Думаю, так и есть, потому что принципы отца Зосимы очень близки к словам преподобного Амвросия: «Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение».

Павел Фокин
Заместитель директора по научной работе Государственного литературного
музея им. В. И. Даля, заведующий отделом «Московский дом-музей Достоевского». Фото Дарьи Монастырецкой / biblio.tv
Достоевского нужно читать не умом, а глазами. Писатель приглашает читателя к сотворчеству. И тот, кто откликается на призыв, становится его счастливым собеседником, которому Достоевский доверяет свои прозрения.
В романе «Братья Карамазовы» Иван Карамазов рассказывает брату Алеше поэму «Великий инквизитор». Ее центр — обвинительный монолог старого инквизитора в адрес плененного им Христа, Который вновь пришел на землю. Действие происходит в темнице, куда инквизитор заточил пленника и в которую приходит для вынесения приговора. Инвективы старца логически безупречны, этически обоснованны, поражают бесстрашием и неоспоримостью. Монолог он заканчивает словами: «Завтра сожгу Тебя. Dixi». Пленник молчит. Но поэма этим не заканчивается.
«Я хотел ее кончить так, — говорит Иван, — когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: “Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!” И выпускает его на “темные стогна града”. Пленник уходит».
Взволнованный Алеша мгновенно спрашивает: «А старик?»
«Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее», — отвечает Иван.
Если читатель довольствуется ответом Ивана, он упустит самое важное. То, что понимает Алеша и что он требует от Ивана признать, в то время как тот лукаво уклоняется от истинного ответа.
А старик? Это ключевой вопрос.
Старик остается в темнице.
Этот могущественный интеллектуал, в течение всей жизни подбиравший аргументы и строивший силлогизмы, чтобы опровергнуть подвиг Христа, «сжечь» Его, на самом деле все эти долгие годы шел к своему заточению.
Пленник уходит. Старик остается в темнице.
Но и это не всё. Дверь из темницы открыта. Старик может ее покинуть. Но только — вслед за Пленником. Вслед за Христом.
Любой шаг инквизитора в сторону двери будет шагом вслед за Христом.
И иного выхода из темницы нет.
Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, — говорит Христос в Евангелии от Иоанна (Ин 10:9).
И там же: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин 14:6).
Достоевский-художник реализует эти метафоры буквально. Дополняя: всё прочее суть «темница», «ложь и обман», «смерть и разрушение».
В финале поэмы Ивана есть еще одна «скрытая» картина, которую читатель должен увидеть сам.
«И выпускает его на “темные стогна града”. Пленник уходит», — говорит Иван.
Пленник-Христос есть воплощение света. В христианской символике Христос соотнесен с Солнцем. Выходя на «темные стогна града», Пленник озаряет их Своим светом. Тьма расточается.
Достоевский учит нас быть зрячими.
На анонсе коллаж из фото Марии Мономеновой и фото с сайта Правительства Калужской области / admoblkaluga.ru