В начале нового века, приветствуя краеведческий альманах «Костромская земля», литератор и костромчанин по рождению Владимир Леонович назвал совестливых авторов и читателей этого издания «рабочими ангелами Руси». Так он перефразировал Арсения Тарковского, чьи избранные стихотворения мы читали в прошлых «Строфах». «Могучая архитектура ночи! / Рабочий ангел купол повернул, / Вращающийся на древесных кронах, / И обозначились между стволами / Проемы черные, как в старой церкви…».
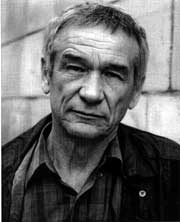
Он и сам такой же рабочий ангел — Владимир Николаевич Леонович, нынешний житель старинного Кологрива, разменявший ушедшим летом свой девятый десяток.
И всегда был таким: и когда учительствовал в селе Николе, клал печи да плотничал. И когда возводил часовню в память о северорусских крестьянах в Карелии. И когда там же, на берегу Пелусозера, воздвигал крест «непогребенным, потонувшим, сгоревшим, безвестно пропавшим в окаянные лагерные и военные годы...»
Его подвижническое сражение — особенное: даже когда оно против, то всегда — за. За то, чтобы не поворачивали реки, чтобы устоял перед натиском чиновников литературный музей, чтобы скорее обрел читатель мудрое слово его друга-земляка Игоря Дедкова…
«Строфы» — совместный проект журнала «Фома» и «Новый мир» о творчестве поэтов XX-XXI веков. Автор проекта: Павел Крючков.
Что до сочинений, то русскому писателю, говорил он, свойственно видеть жизне-, так сказать, преобразующий смысл в своих писаньях. И поминал Цветаеву, которая, сравнивая Маяковского и Пастернака, отмечала, что выход из стихов первого есть ход на площадь. А выход из лирики Пастернака — возбуждение сердечной и мыслительной деятельности.
В его причудливом поэтическом словаре толпятся олонецкие и костромские речения, гортанно звучат любимые грузины, которых он много переводил, проживая вместе с ними их стихи и судьбу. Леонович — поэт-сострадатель, возвращающий в поэзию звук плача и песни, человек неугомонной и обнаженной души. В дни его юбилея многие — кто вслух, кто про себя — сказали: он с нами. С народом, то есть. Всегда.
…С благодарной любовью выбираю стихи из его легендарной книги «Время твое».

* * *
Сквозь дождь и дерево нагое
свет фонаря едва прошел —
как ломкой золотой дугою
широкий вспыхнул ореол!
И поэтическое зренье
подобную имеет власть:
вся жизнь вокруг стихотворенья
сомкнулась и переплелась.
Я вижу свет перед собою
и жизнь кругом, и вся она
и каждая черта — любовью
осмыслена, озарена...
* * *
В дебрях крупноблочного квартала,
в недрах городского бытия
невредимо при дороге встала
малая часовенка моя.
Где проходит служащая смена,
вздернув плечи, опустив носы,
в силу некоего феномена
останавливаются часы.
Возле этих маленьких часовен,
темного наследья старины,
я давно заметил: час неровен,
и в движеньях люди неверны.
Будто бы незыбкий, неослабный,
неоглядывающийся ход —
повергается в какой-то плавный
обморок или круговорот.
Время пропадало несомненно —
опоздало — ускоряет бег.
В силу некоего феномена
о душе подумал человек.
Вечер. Озеро
Отделенный сумраком от земли,
бор не опирается на комли.
Будто рукою легкою взнесены
заповедные стройные три сосны.
Будто едина плоть одного комля.
Все принимает лес и несет земля.
Троелучица бора, хоть ты прими
человека, простертого на земли.
Ландышевый голубой угор моховой
над озерной сонною синевой.
За звуком
Что значит счастье? Ничего я
от будущего не хочу.
Я обнимаю все живое
и жизнью за него плачу.
Последняя — по Волге — льдина
в прозрачном сумраке весны.
Ты погляди: душа едина
у черноты и белизны.
И в этой нестеровской тиши,
в апрельском тонком забытьи
промолвили: сим победиши —
уста мои —
и я за звуком потянулся...
* * *
За острой желтизною дрока
дороги белой не видать.
Когда осыпалось барокко,
тогда открылась благодать.
Тропа моя ушла к бурьяну,
к боярышнику и к стене —
к Галактиону, к Тициану,
ко всей неведомой родне.
Еще рукою суеверной
ветвь ломаную отведу,
еще увижу свет безмерный...
К стене щербатой подойду
и повернусь — и что-то щелкнет,
как на рассвете первый дрозд,
и перед тем, как все умолкнет,
вытягиваюсь в полный рост.
Отдача
Яну Гольцману
Что-то нам, худым и пришлым,
непонятно объяснил
Михаил Михалыч Пришвин:
не гадал — а соблазнил.
Не сойдутся слово с делом:
то мешает, то претит...
Над прогалом поседелым
мертвый тетерев летит.
Ты за ним — вопя и плача! —
попускает же Господь,
чтобы мучила отдача
с той охоты — впредь и вплоть...
Не твоя ли на угоре
лиственница — как струна?
Не моя ли в Белом море
потоплённая страна
в дебрях водорослей ржавых,
в помавании ветвей —
коль причастен сонму правых
сотой долею своей?









