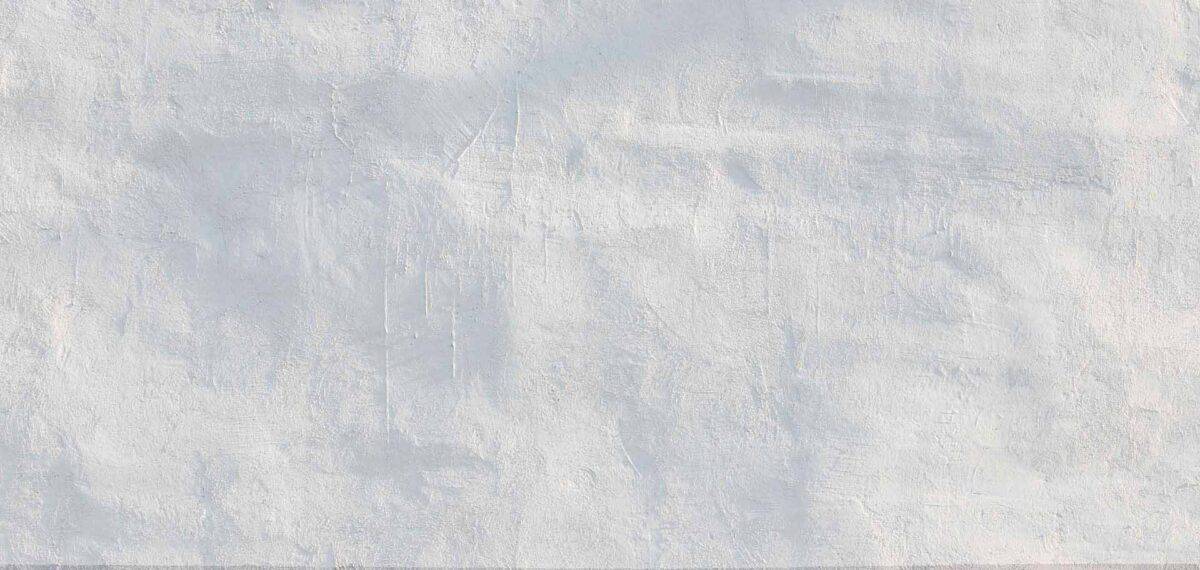В последние годы в России, да и во всем мире, очевиден всплеск интереса к документальному кино. Телевизионные каналы предоставляют неигровым фильмам лучшее время, в кинотеатрах их уже не крутят в качестве бесплатного приложения перед началом "настоящего кино", самые известные режиссеры активно снимают non-fiction. Недавно появившаяся православная документалистика тоже на подъеме, правда, пока не столько качественно, сколько количественно. На общем фоне фильмы режиссера Петра СОЛДАТЕНКОВА выделяются особым, ни с чем не сравнимым почерком мастера, профессионала. В его работах предстают сложные, противоречивые судьбы сильных и мужественных людей – Владимира Высоцкого и Нестора Махно, писателя Артура Макарова и актера Леонида Оболенского, Булата Окуджавы и священника Сергия Колчеева. Это фильмы-портреты, которые позволяют зрителю заглянуть не только в чужую, но, что важнее, и в свою собственную душу.
Петр Яковлевич СОЛДАТЕНКОВ родился в 1951 году в Челябинске. В 1976 году поступил в мастерскую режиссуры документального фильма ВГИКа. С 1981 по 1987 годы – режиссер Ленинградской студии документальных фильмов.
С 1987 года работает над собственными проектами. В настоящее время – руководитель Автономной некоммерческой организации "Киностудия ПС" в Санкт-Петербурге. Среди его фильмов:
"Игра с неизвестным", "Я не люблю", "Постскриптум","Опыты о гражданской войне", "Нестор Махно – Петрушка русской революции", "История любви, история болезни", "Завещание Александра Галича", "Дело Артура Макарова", "Стойкий Оловянный Солдатик Булата Окуджавы".
Фильм Петра Солдатенкова “Мой отец Сергий” (“Киностудия ПС”, 2004 год) награжден почетным дипломом кинофестиваля "Золотой Витязь" (Иркутск, 2004 год), дипломом кинофестиваля "Послание к человеку" (Санкт-Петербург, 2004 год) – за лучший фильм в спецпрограмме "Русь Православная" и Серебряной медалью Сергия Радонежского на кинофестивале "Радонеж" (Москва, 2004 год).
– Когда у Вас появилось первое влечение к “десятой музе”, к кинематографу?
– В седьмом классе. Я прочел книжку Романа Кармена и потом в школьном сочинении написал, что хочу быть кинооператором, путешествовать по миру и показывать этот мир всем людям. Тогда же я увидел во Дворце пионеров объявление о приеме в кино-фотостудию. Пришел записываться, а руководитель мне говорит: “Хочешь снимать кино? А фотографию изучил досконально?”. Вообще-то я еще в шестом классе щелкал “Сменой”, проявлял в бачке пленку и печатал ужасные мутные фотографии, которые через две недели желтели. А тут мне дают в руки “Зенит” и говорят: “Сейчас ты снимешь своего друга (я пришел с другом) вот здесь, на этом стуле, при помощи вот этих осветительных приборов. Потом мы сразу проявим пленку и посмотрим, что ты умеешь”. А я “зеркалку” держу в руках впервые в жизни!.. В общем, вместо кнопки спуска я нажимал на кнопку для обратной перемотки. Какое там кино!..
– Первая неудача Вас не расстроила?
– Расстроила. Поэтому я и стал серьезно заниматься фотографией. Мне повезло, потому что руководил студией замечательный человек, Виктор Муршель – фоторепортер и художник, который нас, школяров, увлек на всю жизнь. С фотоаппаратом я не расставался. Девиз был, как у Анри Картье-Брессона – “пленку в день”!
Через год пара моих работ попала на фотовыставку. А после я, еще учась в школе, и для газет стал снимать. Но главное, что именно там, в студийном коллективе, я понял, как трудно быть профессионалом. А уж профессионалом кино – и подавно!
– Получается, что Вы еще в школе знали о своем призвании, получили неплохую подготовку. Почему же не сразу решились поступать во ВГИК?
– Видимо, мне надо было поработать в разных местах, в том числе на строительстве линий электропередач, отслужить два года в армии, пять лет проработать на телевидении кинооператором – чтобы преодолеть страх перед мыслью о собственном предназначении. И только в двадцать пять лет я поступил во ВГИК, в мастерскую режиссуры документального фильма.
– О ком был Ваш дипломный фильм?
– Он назывался “Визит к счастливому человеку”. Фильм-портрет Леонида Леонидовича Оболенского – старейшего русского кинематографиста, человека трагической биографии. Он был учеником Льва Кулешова, близким знакомым Маяковского и Родченко, в 20-е годы – режиссером первого советского звукового фильма “Кирпичики”, в 30-е – помощником Сергея Эйзенштейна, в 40-е и 50-е – добровольцем московского ополчения, военнопленным в немецких и заключенным в советских лагерях, в 60-е – скитальцем по окраинам страны, и только в 70-е стал востребованным киноактером с неподражаемым аристократическим обликом...
Так как сценарий кафедра не утверждала, я стал снимать на 16-миллиметровую кинопленку “подпольно”. Оператором был Сережа Астахов, который уже в институте получил кличку “классик”. Потом, с его помощью, этот материал перевели на 35-миллиметровую пленку, и я защищался таким вот “любительским” кино. А сценарий утвердили, когда уже был сделан основной монтаж. Дали денег на досъемки, чтобы нам было на что съездить в Ленинград и в Нарву, где Леонида Леонидовича в роли тамплиера сжигали на костре в фильме “Ларец Марии Медичи”. Это было после четвертого курса, летом 1980 года.
В то лето умер Владимир Высоцкий... Так получилось, что я снимал его похороны – 16-миллиметровой камерой, на взятую взаймы пленку.
Владимир Высоцкий
– Петр Яковлевич, расскажите, пожалуйста поподробнее, как судьба свела Вас с Высоцким?
– Это отдельная история. Познакомился я с ним осенью 1977 года. Пришел к служебному входу Театра на Таганке и стал ждать. Узнал я его по голосу. Я представился – сказал, что студент, что хочу снимать о нем фильм. Он взглянул остро, оценивающе: “Снимай, только не бери меня за горло...”, – и предложил посмотреть спектакль “Гамлет”. Я сидел в шестом ряду, Высоцкий со сцены говорил прямо со мной – глаза в глаза... Я был потрясен.
– А как складывалась судьба фильма дальше?
– Материала... Был материал, снятый в 1978 году на концерте в Зеленограде. В институте на фильм о Высоцком я подавал заявки каждый год. Но кафедра тему не утверждала. Высоцкий даже для студенческого документального кино был персоной “нон-грата”. И он это понимал лучше, чем я. Но, тем не менее, в 1980 году мы составили подробный съемочный план из десяти-двенадцати эпизодов на ближайший месяц. Мы договорились, что ежедневно, в 12 часов дня, в полной готовности к съемкам, я буду ему звонить. Кто же знал, что это будет последний месяц жизни Высоцкого? Хотя он-то чувствовал – или знал? – и активностью своей хотел преодолеть неизбежность. Не смог, не хватило сил... Как я уже говорил, мне выпало снимать похороны Высоцкого. Это было чудо – что дали снять, что не отобрали пленку.
– Как сложилась судьба Вашего замысла после смерти Высоцкого?
– Всю осень, зиму и весну дипломного пятого курса – да и лето 81 года – я прожил под знаком “фильма о Высоцком”. Я снимал в Театре на Таганке, на Малой Грузинской улице, в квартире Владимира Семеновича, во время поминок, снимал первые вечера памяти в Домах культуры, ездил в деревню, где жил Артур Макаров, в артель, где работал Вадим Туманов, в зону строгого режима на Урал. Скопился солидный материал, но работать не дали – хотя в институте ходатаями за эту работу выступали Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Но решал не ректор, решали в КГБ и в ЦК партии. По цепочке посредников до меня дошла такая фраза: “Пусть не мучается сам и не мучает других людей, пусть защищает диплом, который у него готов, и едет работать”. И я по распределению уехал в Ленинград – на Ленинградскую студию документальных фильмов. А коробки с материалом о Высоцком кочевали по квартирам моих друзей до 1988 года, когда мне предложили сделать фильм на Свердловской киностудии. Это был фильм “Я не люблю”.
Годом раньше я ушел со студии “на свободные хлеба” – и с тех пор по мере сил делаю фильмы по своим сценариям и несу ответственность за эту свободу.
Отец Сергий
– Герой вашей картины “Мой отец Сергий” менее знаменит, чем Высоцкий или Оболенский...
– С Сергеем Колчеевым я познакомился в 1976 году, когда впервые пришел в дом своего педагога – Юрия Владимировича Колчеева. Он работал на “Мосфильме”, а параллельно вел во ВГИКе курс актерского мастерства (Юрий Владимирович скончался 13 февраля 2006 года. Похоронен на Преображенском кладбище рядом с отцом Сергием). Тогда-то и скользнул впервые по периферии сознания будущий отец Сергий. Он был студентом журфака МГУ, причем подающим большие надежды. Внешне – худощавый блондин с задумчивыми глазами и безукоризненными манерами. Позже я был невольным свидетелем домашней драмы, когда Сергей бросил университет буквально перед защитой диплома. Добровольно и осознанно он отказался от карьеры журналиста-международника. Это был личный протест честного человека, не желавшего участвовать во всеобщем вранье. Сергей ушел в армию, потом женился, снял квартиру и стал писать картины – пейзажи русской глубинки с непременными силуэтами заброшенных церквей. Потом поступил во ВГИК, получил диплом художника-постановщика. И вдруг, неожиданно для всех – уход в священники! Да еще в Богом забытые, как говорится, места – в Вологодский край!
– Вас удивил такой поворот судьбы?
– Как ни странно, у меня он не вызвал особого изумления, даже показался закономерным, характерным для Сергея. Когда он стал батюшкой, наши встречи стали крайне редки. Но за несколько месяцев до его смерти, в октябре 2002 года, мы встретились в Москве. Я, конечно, ничего не знал ни о его болезни, ни о тех проблемах, которые сжигали его, но что-то заставило меня вдруг покаянно воскликнуть: “А ведь возьму вот и приеду, наконец, в Никольск! Весной приеду, с камерой!..”, – на что отец Сергий, как-то очень посерьёзнев лицом, сказал: “А чего ждать? Приезжай сейчас! И снимай, а?..” Но “сейчас” было невозможно – держали незавершенные дела... А зимой я узнал горькую правду – отец Сергий умирал в Москве, в квартире родителей... Я тогда снимал на Кольском полуострове, а когда вернулся, его уже похоронили.
Когда Юрий Владимирович Колчеев предложил мне начать съемки фильма, я не колебался ни секунды, потому что считал своим долгом сделать эту работу. Потом уже, в процессе, постепенно выкристаллизовывались идея и форма фильма, а сначала было лишь желание начать и горькая уверенность, что такой фильм необходим.
– Как родилась идея снимать фильм в форме монолога?
– Монолог отца, рассказывающего о своем сыне, ставшем ему духовным отцом – форма не только органичная, но и характерная для нашего времени. Возрождение веры идет очень непростым путем, и отец Сергий в этом смысле фигура знаковая. Он из числа тех “русских мальчиков”, которые взяли на себя нелегкую миссию воссоздания сословия священников, практически истребленного воинствующим атеизмом. Они, нынешние русские священники – плоть от плоти нашей странной жизни, со всеми ее духовными и физическими недугами.
А путь исцеления один – подвиг. Потому фильм и посвящен приходским батюшкам – несмотря на то, что мы рассказываем только об одной, индивидуальной, казалось бы, судьбе.
“Кино для своих”?
– Как Вы думаете, нам необходим отдельный православный кинематограф?
– Я думаю, что какого-то отдельного “православного” кинематографа не существует, хотя студия может быть названа “студией православных фильмов”, равно как и кинофестиваль может именовать себя “православным” – исходя из заявленных целей. Это допустимо. А вот кинематограф... Разве речь идет о каком-то особом способе передачи окружающей действительности на кинопленку или видеоноситель?
Суть – и беда – в том, что авторы фильмов на православную тематику зачастую не являются профессионалами, и заявлением, что фильм православный, как бы снимают с себя всю дальнейшую ответственность и за художественное воплощение темы, и за техническое качество своего произведения. Получается “кино для своих”, “home video”. Конечно, оно может способствовать миссионерскому деланию, но может ему и повредить.
– В православном кино, на мой взгляд, существует тенденция ухода от острых тем, неудобных вопросов. Получается такой религиозный “научпоп”...
– Научно-популярный подход в фильмах профессионалов-кинематографистов прежде всего связан, по-моему, с “человеческим фактором”. Подавляющее большинство авторов, режиссеров и операторов, снимающих фильмы о Православной Церкви – выходцы из научно-популярного кино и редакций учебного телевидения. Да и строгая организация самого материала – богослужения, церковных обрядов и таинств, каноничность молитв и церковных песнопений, литературы – затрудняет свободное обращение с ним. В общем, есть предпосылки для формализма.
Но есть и другая сторона вопроса. Если кино, пусть и документальное – искусство, то оно и создается, и живет по законам искусства, а эти законы несколько отличаются от законов веры. Это вопрос очень тонкий, здесь нет готового рецепта. Каждый художник решает его, в конечном счете, сам.
– Способно ли сегодня выжить независимое документальное кино? Поддерживается ли оно в нашей стране?
– Что такое независимое документальное кино, мне неизвестно. Документальное кино, при всей его органической связи с реальностью, зависимо – от человека, который это кино создает. А не зависимое от государственных чиновников, от интересов богатых “спонсоров”, от “духа мира сего”, от телевизионных “форматов”? Думаю, в России такое кино выжить способно. Но надеяться на триумфальное шествие по ковровой дорожке не надо. Да и нет никакого “независимого кино“ как течения или направления – есть, наверное, отдельные фильмы в разных жанрах, сделанные разными режиссерами с различными мотивировками своих целей.
– Но если говорить о Вас...
– Если говорить конкретно о себе – я вправе считать себя независимым режиссером документального кино (но не режиссером какого-то “независимого кино”) – потому что не завишу от заказа и связанных с этим средств на производство. Однако если быть честным, я не считаю это своим достоинством – скорее, независимость моя есть соединение различных факторов, в числе которых и обыкновенная “обломовская” лень.
– Герои всех Ваших фильмов – честные, сильные люди: Высоцкий, Макаров, Башлачев, Шевчук, отец Сергий... Кто мог бы стать героем Вашего будущего фильма?
– Однажды я спросил Владимира Семеновича Высоцкого: “Допустим, вы – режиссер документального кино. Какие бы фильмы вы стали снимать? О чем? Или – о ком?” Высоцкий ответил: “Я хотел бы снимать фильмы о свободных людях”.
Вот такая формула творчества. Она мне очень близка.