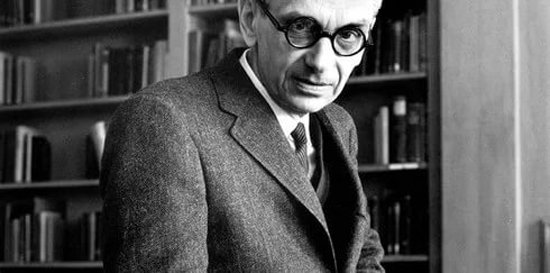Я не был лично знаком с Борисом Стругацким, общался изредка в деловых письмах — он входил в жюри мемориальной премии имени Кира Булычёва, в которой я отвечал за подсчёт голосов. Но вот он умер, и внутри у меня сделалось как-то пусто. Будто из меня вынули кусок меня.
В юности Стругацкие были для меня всем. Впервые прочитав их в двенадцать, я, что называется, «запал» и охотился за каждой их вещью. Однажды, лет в семнадцать, горделиво заявил своему дяде, что заповедь «не сотвори себе кумира» ко мне никак уж не относится, что я на такое никогда не поведусь. «Правда? — усмехнулся он. — А как же Стругацкие?» Что-то я пробормотал, но крыть, по сути, было нечем.
Поэт в России, как известно, больше чем поэт, особенно в тоталитарные времена. Вот и Стругацкие на рубеже 70-80 годов прошлого века стали для меня больше, чем просто хорошими писателями, авторами захватывающих книг. То, о чем они писали, я воспринимал как своего рода пророчество, причем, замечу, не в стереотипном понимании этого слова, не как предсказания будущих событий, а в христианском — то есть как возвещение высшей, вневременной правды (кстати, в те годы о христианстве я имел представления более чем смутные). Ну или, говоря более привычным, школьным языком, это стало лучом света в тёмном царстве.
В книгах Стругацких я, подросток начала 80-х, увидел идеал человека — такой идеал, в который можно верить. Не абстрактный праведник, лишённый всяческих недостатков (а вместе с ними — и любых индивидуальных особенностей), не картонный розовощёкий строитель коммунизма — герой у Стругацких был живым, противоречивым, со своими тараканами, но его ценности были высокими, а главное, он жил и дышал в соответствии с этими ценностями. И так всё это было непохоже на душную, скучную и лживую обыденность, — и вместе с тем так потрясало глубокой внутренней правдой, — что открывало мне какие-то иные, высшие измерения жизни. Глядя из 2012 года в 1982, я прекрасно понимаю, что чувства, которые пробудили во мне книги Стругацких, были именно религиозными чувствами. Взыскание высшей правды, смысла мироздания... И когда чуть позже я познакомился с православными людьми и начал размышлять о вере — у меня это наложилось на фон, созданный книгами Стругацких.
Стругацкие, кстати, стали для меня заочными учителями и в литературном творчестве. Всё было очень просто — когда удавалось добыть на время какую-то их вещь, я перепечатывал её на пишущей машинке «Украина». Повесть среднего размера занимала примерно два-три месяца. И вот так, через пальцы, впитывал стилистику АБС, речевую манеру, образный ряд, поэтику текста. Ведь когда мы просто читаем, особенно в юности, то обычно проскакиваем мимо художественных моментов, нам интереснее узнать, что будет дальше. А тут я уже знал, что будет, и появлялась возможность вдумываться и в то, что сказано, и, главное, в то, как сказано. Разумеется, это повлияло и на мою собственную прозу. Не в том смысле, что я стал подражать их манере, но моя собственная манера формировалась ведь не из пустоты, а из того, чем я жил, что я читал, что отстукивали мои пальцы на раздолбанных клавишах машинки.
Когда я стал постарше, уже в студенческие годы — начал замечать и другие мотивы в книгах Стругацких, не социальные уже, а философские. Мучительно думал о мироздании после «За миллиард лет до конца света», пытался понять, как такое возможно, чтобы слепые, безличные законы природы проявлялись как нечто осмысленное, обладающее волей. То есть — открыл для себя понятие телеологии. А по «Улитке на склоне» мне даже периодически снились сны, зачастую страшные. Тема прогресса, который может при этом оказаться нравственным регрессом, была мне вполне понятна, но вот ограниченное человеческое познание перед лицом чего-то бесконечного и принципиально непознаваемого... это жгло и мучило, заставляло вновь и вновь возвращаться к этим мыслям. Ну и, конечно, Странники... фактически, у АБС они стали синонимом сверхъестественного, и главной тайной для меня было не столько происхождение Странников, сколько, скажем так, их этическая ориентация. А ведь проблема важнейшая: если мы признаём, что существуют какие-то потусторонние, сверхъестественные вещи, то как нам к ним относиться, как воспринимать? В привычных координатах добра и зла (как, например, Рудольф Сикорски в «Жуке в муравейнике», видящий в Странниках именно силу зла), или надо эти координаты менять? Проще говоря — нужен ли нам недобрый Бог? Или Бог, чьи представления о добре абсолютно не совпадают с нашими?
Понятно, что не только Стругацкие наводили меня на такие размышления, и по мере взросления я находил какие-то свои ответы. Влияние Стругацких уменьшалось, в чём-то я с ними принципиально расходился, в чём-то они казались мне недостаточно решительными (например, в отношении к коммунистической идее, в которой они даже в перестроечные годы вовсе не разочаровались — точнее, разочаровались в методах, но не в исходных целях).
Потом, когда я крестился и начал стремительно воцерковляться, то увидел и более серьёзные точки расхождения. Не в том даже дело, что Стругацкие были атеистами (да и вообще, в отношении к религии — очень советскими людьми). Дело в том, что я осознал невозможность их идеала, невозможность мира Полудня. Ведь человеческая природа повреждена в результате грехопадения прародителей, и это повреждение присутствует в ней изначально. Поэтому как ни улучшай общественное устройство, а доброго человечества не получишь. Максимум — будут добрые люди, причём не в большинстве. Стругацкие же, как и вообще все поколение шестидесятников, похоже, считали, что всё зло в человеке от внешних причин: социальных, культурных, медицинских. Отсюда их вера в Теорию Воспитания — совершенно несостоятельную с христианской точки зрения. Конечно, не стоит упрощать картину — например, «Град обречённый» в этот онтологический оптимизм не особо вписывается, не говоря уже о романе Бориса Стругацкого (под псевдонимом С. Витицкий) «Бессильные мира сего». Но в целом их взгляд на человека, как я сейчас читаю, был слишком романтическим и вообще навеянным духом эпохи Просвещения. Духом, который кто-то метко охарактеризовал так: «жизнерадостное упрощение всего и вся и проистекающий из этого беспочвенный оптимизм».
Отдельная больная тема, которую обойти никак нельзя — поздний роман «Отягощённые злом, или сорок лет спустя» (1988 год), единственный роман АБС с явной религиозной проблематикой, причём это именно проблематика, а не антураж (как, допустим, в «Трудно быть богом»). Роман обругали уже все, кому ни лень, и мне не хочется плескать своё ведёрко дёгтя. Да, действительно, с христианством тут ничего общего нет, действительно, можно воспринять этот роман как кощунство — хотя, по-моему, никакое это не сознательное кощунство, а просто попытка поиграть в свою игру на чужом поле, попытка, вполне постмодернистская по своей сути. О чувствах верующих людей Аркадий с Борисом вряд ли думали, потому что вокруг видели только атеистов или агностиков, а евангельские образы и сюжеты воспринимали исключительно как общекультурную составляющую человечества, которую вполне можно использовать в качестве сырья. А со стороны, конечно, смотрится очень неприятно, и это единственная вещь Стругацких, которую меня не тянет перечитывать.
Но как бы я ни критиковал те или иные взгляды АБС, как бы ни полемизировал с ними в собственных произведениях, а факт остаётся фактом: я родом из Стругацких. Не было бы их — не было бы и меня. Меня такого, каков я есть. Может быть, я не стал бы православным христианином, и, скорее всего, не стал бы писателем. Был бы какой-то совсем другой человек с тем же именем. Причём не думаю, что он был бы лучше.
И вот братьев Стругацких уже нет. Но книги-то остались, их по-прежнему читают, причём не только мы, рождённые в СССР, но и молодёжь. А значит, ниточка не порвалась, и современному подростку, загружающему на букридер «Трудно быть богом» или «Волны гасят ветер», эти книги точно так же разбередят душу. Почва будет вспахана, а вот что вырастет — это вопрос уже другой.
Но на невспаханной почве вырастают только сорняки.