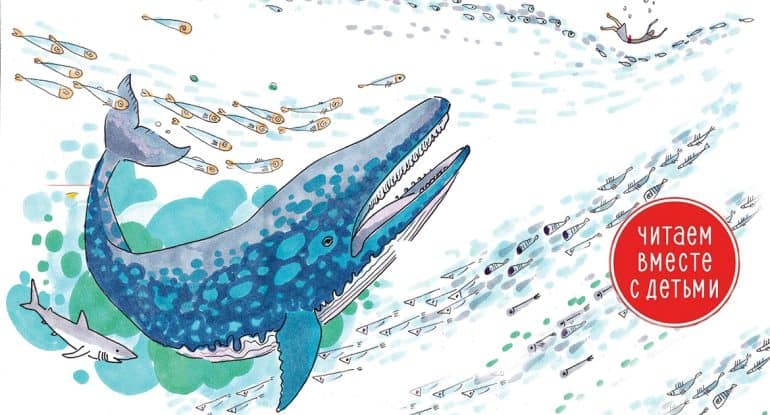Он уже столько раз это слышал:
"Когда делаешь обед или ужин, не зови ни друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых... Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе..."*
Ему представилось это немыслимое застолье, он видел их резко, как наяву: пугливые, похожие на бомжей...
"Это что, каждый день такой пир им устраивать? - подумалось ему. - Или раз в год?"
- Попробуй, - услышал он вдруг, - хотя бы один раз в жизни устрой такой пир. Если сможешь ...
Это было к нему. Повисла пауза. Краем глаза он успел заметить, будто несколько профилей уже поворачиваются в его сторону, недоуменно. "Если сможешь..."
- Сегодня и сделаю, - сказал он немного обиженно.
Но получилось громогласно, ветер с озера усилил голос и разнес над всеми стоящими: "Сегодня!"
- Сегодня, - тихо повторил он, не вполне понимая происходящее...
И какое-то время он так и стоял, ничего не слыша и не замечая вокруг... Пока, возвращая его в реальность, не пришла ему мысль спросить: а нельзя ли устроить этот самый "пир" где-нибудь в другом месте, отдельно (какая разница-то?), да и удобнее будет, как ни говори. Но упустил время, его оттесняли быстро другие, и он успел крикнуть:
- Отче, благослови!
И получив благословение, выбрался, наконец, из толпы и вышел к дороге.
Повезло человеку, если подумать. Всего "один раз устроить" и "блажен будешь", какие проблемы? Дом большой, слава Богу, столы только расставить. Непонятно только, почему именно ему сказано было про этот "пир", народу-то всякого хватало? Хотя понятно, конечно: видно, что человек с достатком, любит поесть, посидеть в компании... да, тут все просто. "А что в самом деле, - рассуждал человек, - почему бы и нет? Можно ведь устроить все на улице, у старого акведука, там тихо, природа... сколотить столы (погода позволяет), и мест будет больше и вообще... Нет, сказал он себе, нельзя. Тут вся штука в том, чтобы в доме (в том то и дело!), где и сам обедаешь, а то что ж это - устроил им где-то там подальше: вот я уважил вас, да? Так это ж фарисейство..." Но тут он вспомнил, что обещался-то он "сегодня"! На часах было без четверти два. "Ну что ж, сегодня так сегодня, - вздохнул он... - Тогда уж надо устроить так, чтобы они всю жизнь свою помнили... и не просто накормить, а что-нибудь такое еще для них придумать, словом, чтобы помянули его хоть пару раз в молитвах (это ж великая сила - молитвы таких вот людей!), они, говорят, прямехонько Богу в уши идут. Так почему бы и не расстараться, "хотя бы раз"! Что я? Ведь не мое ж все это. Господи, помоги..."
Олег Васильевич Мамонов, владелец торговой фирмы, жил за городом, был женат, но бездетен.
- Слово-то какое - "пир"! - усмехнулся он, - а чем он собственно отличается от того же застолья?
И стал припоминать богатырские и рыцарские пиры из детских фильмов и книжек: стены, увешанные коврами, кубки, чаши, и почему-то хохот, пляски и ряженых... Стало смешно, он съехал с шоссе, притормозив у знакомой выбоины, и, свернув в проулок, составленный сплошь из глухих заборов, въехал в свои ворота, которые, впустив его, так же автоматически и закрылись, мягко стукнув массивными стальными створками... Замечательно. Только как он скажет об этом своей Любане? Одна голая мысль о таком "пире" может ввергнуть ее в неуправляемое состояние: бомжи в ее доме!! Толпа немытых, дурно пахнущих и больных людей, наверняка, жадно чавкающих, с какими-нибудь вшами, с гноящимися нарывами, ранами... Нет, он не боялся своей жены, его слово оставалось решающим, в крайнем случае, он мог бы и рявкнуть, но дом, дом - это все, чем она жила, дом был отдан целиком в ее ведение, к тому же скандал в таком (святом!) деле может попросту обесценить его, свести на нет. Но, с другой стороны, приходилось учитывать и последствия, жить-то ему не с бомжами, а с ней. Он понимал, что ему предстояло совершить нечто особенное, из ряда вон выходящее, оно вырастало пред ним, дразня и бросая вызов своей пугающей невероятностью, но именно этим-то и разжигало в нем с каждой минутой знакомое с детства еще нетерпение, когда предстояло пойти на риск и добиться, во что бы то ни стало добиться того, что казалось заведомо неосуществимым, и сейчас он по-настоящему боялся лишь одного: что ему помешают, что ему не удастся этого совершить.
- "Попробуй хотя бы раз", - проговорил он тихо, - "Их-лебедих, Любаня". (Это его излюбленное выражение, по-немецки: Ich liebe dich - их либе дих - я люблю тебя.)
Олег Васильевич медлил. Он стоял в саду, за домом, в таком месте, где она никак не могла его видеть. "Да, придут, - думал он, - будет грязно, ковер можно будет выбрасывать, стулья тоже засалят-запачкают чем-нибудь, и это ладно, не беда, ну повоняет и выветрится, а что не выветрится, то и сжечь можно в конце концов, ну и что? что такого? не пожар, не землетрясение, - накормить горстку бомжей... Ладно, как бы там ни было, но я сделаю это".
Осень выдалась холодной и хмурой, но яблоки были, они висели одинаковыми шарами, неподвижно. Он ступил на красный песок дорожки и пошел к дому.
II
На Любаню он наткнулся прямо в холле, и, старясь не прятать глаза, произнес:
- Паршивое состояние какое-то, еле добрался...
Она увидела, как он недовольно поморщился и не нашлась, что ответить, как-то все застопорилось в ней. Он поднялся по лестнице в свою комнату и закрыл дверь. Год назад было что-то подобное, он так же пришел тогда раньше обычного, так же поднялся к себе и лег... И в Любане тотчас ожил весь ужас ее тогдашнего состояния, и та леденящая угроза: "предынфарктная ситуация", а вслед за этим страх его смерти и ее растерянного одиночества, а там и совсем уж какая-то нелепая, другая жизнь, которую она боялась себе представлять, и в которой ей уже заранее не хотелось жить... Не помня себя, она поднялась наверх и нашла мужа лежащим на диване, под пледом, с затемненным от света лампы лицом.
- Олег, что с тобой?
- Не волнуйся.
- Сердце?... как тогда?
- Так... слабость какая-то, непонятная.
- Олег, я вызываю врача.
- Чепуха, не гони волну.
- Олег!
- Не волнуйся, я не думаю, что как тогда.
- Тогда тоже была слабость, ты хочешь теперь полного инфаркта?!
- Если ты не будешь доводить до него... непонятно, чего ты добиваешься своими криками...
- Прости Олег, но я слишком...
- Вот именно "слишком", Любаня. Перестань, я консультировался. В общем ничего смертельного, советуют полежать, на всякий случай. И я прошу тебя запомнить: все войдет в колею, "без шума и пыли", понимаешь? И никакого мрака, - он улыбнулся, - если только ты сама не захочешь этого.
- Хорошо, - сказала Любаня.
- Я "туда" не собираюсь... и оставим это.
- Хорошо.
- Тем более, что вечером... Ты не могла бы помочь мне? Надо управиться с одним дельцем.
- Кто-то должен придти?
- Я не знаю, в каком я буду состоянии, но это нужно сегодня...
- Их что, так много?
- Надо будет угостить... группу бомжей. Человек двадцать.
- Олег, ты в своем уме? Какие сейчас приемы?
- Это крайне необходимо, заодно как-то и раз влечет меня, надеюсь. Я очень жду этого, понимаешь? Это очень важно для меня.
- Они кто, опять из милиции? Или те, с Украины?
- Я не знаю, я знаю, что они бомжи, бродяги, нищие...
- В каком смысле? Настоящие?!
- Самые натуральные, живьем.
- Олег...
- Так я могу на тебя рассчитывать?
- Я не понимаю... но почему у нас?
- Н-да, как я и предполагал, - скривился он, придется самому.
- Хорошо, ну хорошо! Сколько их?
- Я же сказал, двадцать человек. Накрыть в гостиной. И ничего не менять там! Прошу тебя, не заводи меня, пусть все будет, как есть.
- Это что-то религиозное?
- Да.
- Хорошо, но пусть это будет завтра, послезавтра...
- Пойми, это действительно важно для меня, если я делаю это в таком состоянии! И не только для меня...
- Олег... Олег...
- Ну что "Олег"?
- Не представляю, не представляю...
- Завтра, когда поедем к Борисовым, я тебе все объясню. Если хочешь. Позови ко мне Камарика и Григорича.
- Ты что-нибудь принимал из лекарств?
- Да.
Похоже, его план удавался.
- Потерпи, - он хотел улыбнуться, но почему-то вдруг закрыл глаза.
Она повернулась и вышла из комнаты.
- Их-лебедих, Любань, - сказал он.
Любаня спустилась вниз. Потом ходила по комнатам. В слезах. Потом стояла у окна, не отходя... Наконец, появилась в саду, в накинутом наскоро плаще, тыча пальцем в кнопки мобильного телефона.
III
Олег Васильевич находился весь в какой-то внутренней дрожи, что, впрочем, нетрудно было объяснить, между тем, обстоятельства складывались удачно, голова была легкой и ясной, все было продумано: Камарик привезет "кондитерку" - что-нибудь из непачкающегося (печенье, вафли, эклеры), вареную колбасу - двух сортов, буженину, красную рыбу (никаких консервов), сыр... На горячее будут щи и пельмени (настоящие), на десерт - виноград, бананы, клубника. Чай, кофе, сливки. Каждому с собой в пакет: кусок копченого сала, конфет, сухарей и немного денег (много нет смысла - все равно пропьют), плюс аптечку: анальгин, вазилин, пластырь... А вот Григоричу, тому самое основное: найти, подобрать и привезти бомжей, уж каких найдет (за исключением откровенных дебоширов и алкашей), и потом их аккуратно проводить, может, и подвезти, кому надо. За Григорича он был спокоен, только бы обошлось без "сюрпризов", а то, не дай Бог, не наберутся или разбегутся, или побоятся, или еще что. Григорича, однако, в доме не оказалось, передали, что поехал "насчет саженцев" и что будет к пяти (что, в общем, было не к спеху, раньше он, пожалуй, и не понадобится), а потому, отпустив неунывающего Камарика, Олег Васильевич снова прилег, продолжая прокручивать в голове предстоящие хлопоты, и все ли удается предусмотреть... засмотрелся на большую старинную гравюру, изображающую шествие невиданных парусников, и непонятно как, совершенно не желая того, заснул...
Любаня, забившаяся в угол сада, тот самый, в котором совсем недавно прятался ее супруг, причитала в мобильник:
- Лева, я не знаю, что делать! Я не знаю, Лева! Не знаю! У него опять какие-то религиозные заскоки и теперь он решил притащить в свой дом бомжей, настоящих вонючих бомжей! Лева, это как дурной сон, я не знаю, что со мной будет, я сойду с ума от всего этого! Он такой, как в тот раз, когда был микроинфаркт, помнишь? Мне жутко смотреть на него, я боюсь! Но как представлю у нас этих вонючих немытых баб, этих грязных алкашей!..
- Стоп-стоп-стоп, - перебил Лева, - погоди, не накручивай себя, дай подумать. Что-то здесь не то... Что-то не то... Уж не собрался ли он отмочить ту библейскую притчу, а?
- Лева, я не понимаю, о чем ты говоришь, я не знаю, что творится, я чувствую что...
- Постой, Любань, я, кажется, понял в чем дело. На той неделе он пригласил нас в одно местечко, хотели посидеть, поболтать, то-се, давно уж не собирались... и сорвалось, понимаешь? Он, кстати, хотел привести еще какого-то писателя православного, что-то ему зачесалось вдруг свести нас, а у меня подмена случилась, у нас ведущий эфира свалился с температурой, и я не смог, и у других тоже мужиков что-то не сложилось в тот день, ну бывает! Я ему звонил тогда, и он как-то странно так разговаривал, мне показалось, обиженно, но я не думал что... - Лева сделал паузу и присвистнул, - точно, он надулся и решил, значит, в отместку... "много званных, да мало избранных", поняла? Ну, Оле-е-г! Слушай, он там действительно, похоже, рехнулся в этой вере своей, его спасать надо, ну Оле-е-г!
Любаня все равно ничего не поняла, она знала одно: Лева умный, он, может, хоть что-нибудь придумает, на это была вся надежда.
- В общем, слушай, все проще банана: он прикинулся больным, чтобы претворить свою идею в жизнь, прекрасно зная твою реакцию на все это, поняла? А иначе бы он не протащил ее, - это же как дважды два! Ты вот что, ты его сейчас не трогай, пусть себе изображает "больного Карлсончика", я тебе дам телефон одного врача, профессора (он у нас частенько тут подрабатывает на радиостанции), с ним можно договориться, пожалуй, я сам с ним поговорю предварительно, потому что мне тоже все это не нравится... вот пусть он его обследует. К тебе придраться невозможно, ты как жена, как близкий человек, естественно, беспокоишься о здоровье (о жизни!) горячо любимого мужа, кто в тебя "бросит камень"? Ты же не виновата, что он блефует, ты же не знала! Если хочешь, можешь сослаться на меня, даже лучше всего сошлись на меня, действительно, скажешь, что я звонил узнать, как дела, ну ты и рассказала, понятное дело... а приедет профессор - скажешь, что Лева прислал, поняла? Вот так. А когда все вскроется - крыть ему будет нечем, затея его сорвется, побурчит, посмеемся, на том все и кончится. Так что, Любаня, не дергайся и успокойся, сейчас (минут через десять, не больше) я перезвоню тебе, подожди. Ну, дела. Любаня закусила губу и перевела дух.
- Ох, ты Мамонов, - тихо сказала она, - ох ты Мамо-о-нов! - принялась трясти она тугую ветку яблони, чувствуя, как вздрагивает земля под ударами яблок.
IV
Олегу Васильевичу приснилось, как он летал. Происходило это так: он идет, глядя под ноги, по черным полированным плитам... в нем нестерпимо желание полететь, настолько нестерпимое, что он еле сдерживает себя; вот сейчас это произойдет с ним... он волнуется, но не подает вида, он даже знает, как то будет... люди крутятся вокруг и посматривают на него, подозревают, что он собирается что-то сделать и даже как будто ждут от него этого, но тоже не подают вида, обходят его, освобождая впереди пространство... И он уже не может удержать улыбки (ну не виноват он, что он умеет это, а они нет!), разводит самолетиком руки (пора!), еще один шаг и он, отталкиваясь, начинает падать, он падает людям под ноги и не боится... остается несколько сантиметров до черного гранита, он скользит над полом, задевая его пуговицами рубашки, и вот сейчас (так просто!) он поднимает голову прогибается и уходит от пола вверх, все круче и быстрее - вверх... летит уже над чьими-то головами взлетает по плавной большой дуге, забирая немного влево... делает круг над всеми и над землей (почти невидимой уже), и ветер бьется за пазухой холодный, свежий (словами не передать!) и ему теперь абсолютно ни капли не стыдно перед ними!! Потом он снижается и опускает вертикально корпус, и касается ногами пола, опять идет вместе со всеми с раскинутыми руками, с ним заговаривают и смеются и не знают, какая это нестерпимая тяга, какая это дикая радость и счастье! И пусть думают, что хотят, но он делает шаг и отталкивается, и снова па дает вперед самолетиком, скользит на бреющем полете, и снова взмывает, прогнувшись, стремительно и плавно вверх... Потом он сидит на вершине огромного дерева (хотя только голый ствол и сук), смотрит вниз, в нем поднимается неодолимое желание слететь туда к ним, и он, немедля, срывается, как ныряльщик, и падает почти отвесно... он знает что перед самой землей паденье замедлится, он опустит ноги и встанет твердо, как все... свистит е ушах, все бешено растет на глазах, надвинулась од ним ударом земля (он еще подумал, что, если бы он не знал, как все будет, то, наверное бы, умер со страха), но он уверен, вот уже головы людей, дорога, камни, а скорость не меняется, он не успеет!..
- Олег!
Он вздрогнул и проснулся от стука в дверь.
- Олег, это я, - услышал он голос Любани.
Олег Васильевич мотнул головой и принял полусидячее положение.
- Олег, вот доктор, он профессор... я, то есть. Лева, мы все...
- Я понял. Оставь нас вдвоем, пожалуйста. - сказал он негромко.
"И это мы тоже предвидели, Любаня", - подумал он, разглядывая доктора: под подушкой лежал его портмоне, содержимое которого, способно было "уговорить" любого профессора. Не знал он лишь одного...
"Так вот с кем придется иметь дело, - прикидывал профессор, рассматривая своего "пациента", -новоявленный святоша, решил купить себе место в раю, а как насчет лжи, уважаемый ? Или она у вас не считается, когда, так сказать, "во Благо"? Ишь ты, умник какой, накормить кучку бродяг, и готово! Да если б все было так просто, дорогуша, все только бы этим и занимались: наперебой кормили б друг друга и берегли, как зеницу ока... И вроде умный с виду мужик, а вот и его окрутили христианской моралью, и ведь не втолкуешь теперь, что это всего-навсего ханжество и дешевые жесты... Блефуем значит, господин Мамонов, давай-давай, посмотрим, как это у нас получится, может, и взяточку предлагать будете, так не возьму я, из принципа". Но вслух сказал:
- Ну-с, как говорят доктора у классиков, на что жалуемся?
- Да так что-то. Присаживайтесь, профес... - едва он успел пошевелить рукой, как был пронзен невесть откуда взявшейся болью!
- Не беспокойтесь, - сказал профессор.
Он наблюдал за ним, стоя у двери... Потом подошел и коснулся его руки.
Олег Васильевич лежал неподвижно, глядя на него испуганными глазами, еще раз попытался заговорить:
- Что-то кольнуло...
Профессор посмотрел ему в глаза и открыл саквояж:
- Разберемся.
V
Любаня снова ходила по комнатам, теперь она больше всего на свете боялась скандала, ее пугало непредвиденное, какая-нибудь ошибка, чреватая катастрофой: "Почему он так спокойно отреагировал на этого профессора? Рассчитывает договориться, подкупить? Ох, Мамонов, если подтвердится, что ты здоров, пусть только подтвердится!.. Ты у меня напляшешься! На этот раз "заболею" я, так "заболею", что ты не только о бомжах, ты и о церкви-го своей позабудешь, уж это я тебе обещаю!" Она еще много думала на эту тему и все время что-то подталкивало ее, как будто ей непременно нужно было куда-то спешить, что-то срочно делать, как будто она может упустить что-то важное и тогда случится непоправимое, страшное... Эта навязчивая тревога не давала ей передышки, словно все несется к какой-то развязке, все разворачивается слишком быстро, наскакивая друг на друга, в каком-то безумном вихре...
А между тем, часы еле передвигали стрелки, и, казалось, этот профессор никогда не выйдет из кабинета. К тому же оттуда давно не доносилось ни звука. Тишина ее угнетала, включенный телевизор раздражал дебильной рекламой, она не выдержала, поднялась наверх и подошла к двери, но в этот момент дверь открылась и к ней вышел озабоченный (или раздосадованный?) чем-то профессор. По дороге к машине он изложил ей свое мнение о происходящем:
- Что я могу сказать... ничем не могу Вас порадовать, во всяком случае можно говорить о том, что подтверждается.
Любаня не верила ни единому его слову: "Сговорились! Подкупил или пригрозил, наверняка!" Она шла, механически кивая ему головой, пропуская мимо ушей его доводы и медицинские термины... ей нужно было одно: суметь подловить этого "профессора" на фальшивой интонации, на игре, на притворстве...
Профессор понял, что его не слушают, он остановился, взял ее за руку и сказал:
- Поверьте, я действительно говорю Вам правду, более того, я пытался уговорить его, как-то отговорить его от этой ненужной затеи... но он слишком уперт в нее! Для госпитализации, увы, пока нет достаточных оснований; все-таки положение не столь серьезно, думаю, сказалось излишнее напряжение. В общем, могу лишь посочувствовать Вам... Но во избежание худшего, думаю, надо уступить ему, он, видимо, ждет от этого неких положительных эмоций, ну что ж, они ему действительно пригодились бы... Не отчаивайтесь, постарайтесь посмотреть на все философски: в конце концов, здоровье Вашего мужа дороже каких-то временных неудобств... хотя, я понимаю, что это значит, в своем доме! Смиритесь. Всего Вам наилучшего. Рецепт я оставил там, на столе... ну, не надо так напрягаться! Прощайте...
Приехал Камарик, привез "кондитерку" и все остальное.
Любаня побрела в дом, думая, как ей подниматься к мужу: "Теперь он знает, что профессора подослали, начнет рычать, ему станет хуже и что тогда?! Что?! За что мне все это?!!"
VI
Олег Васильевич лежал в том положении, в котором оставил его профессор, и смотрел на потолок, на коричневые, в глубоких и ровных трещинах, дубовые балки... Он смотрел на них медленно, почти неподвижно, наверное потому, что понимал, что это конец. Конец. Он почувствовал это еще до ухода профессора (тот так ничего и не понял), как-то неуловимо, но в то же время и сильно почувствовал этот неумолимый знак Оттуда и об этом... хотя мозг его все еще не мог опомниться: как это в несколько часов превратиться из активного, полного жизненных сил мужика в умирающего человека? Он все-таки удивлялся себе... удивлялся тишине, которая царила в нем, но больше всего удивлялся тому, что нет в нем никаких вопросов, никаких "почему? зачем? за что?" как будто бы он знал ответы... как будто знал... "Теперь хватило бы сил довести до конца основное , - думал он, и еще: "Любанька, что с тобой будет? Бедный мой лебедих..."
Любаня вошла и стала слушать, что говорил ей муж. Особенных перемен в нем она не нашла, было заметно, что ему хотелось держаться непринужденнее, а настораживало то, что он ни разу не повысил голос, и ей ничего не оставалось, как стоять перед ним, стараясь не смотреть в глаза. А говорил он о том, чтобы поискали в кладовке два бронзовых трехрожковых подсвечника, которые подарили ему на юбилей в том году, и чтобы поставили на стол с восковыми свечами, и чтобы настелили его любимую зеленую с вышивкой скатерть, и чтобы вырезали крупно буквы "М" и "Ж" и прикололи к дверям туалета на первом этаже, и чтобы не заменяли стулья лавками и табуретками, а лично ему чтобы оставили место в торце стола у камина... и велел позвать, когда появится, к нему Григорича, немедленно...
Едва дождавшись конца разговора, она схватила со стола рецепты и бросилась вниз: картина предстоящего бедствия предстала ей вновь, в самых отвратных подробностях и деталях, она чувствовала, что теперь ей уже не уйти от этого кошмара! Послав Камарика в аптеку, она выбежала с мобильником в сад.
- Деловой! - взорвалась она, - туалет им еще подавай! Стулья атласные гадить! Как же! Разбежалась!.. Ну, нет, Мамонов, ты меня не знаешь! Нет! Нет!! Через мой труп!
Она набрала Левин номер, она снова звонила Леве, этому горе-Пуаро (кому ж еще было звонить?), больше некому. Как она и предполагала, Лева был уже в курсе, а потому растерян и вял:
- Не знаю, что тебе посоветовать. Может, попытаться как-то все же уговорить его отложить этот вертеп, хотя бы до завтра, а там..
- Лева, ну как я теперь к нему подойду? Ты бы видел его! Я все-таки боюсь за него, боюсь, понимаешь? У него ведь действительно...
- Да знаю! Дались ему эти бомжи.
- Жутко, Лева, кошмар!
- Может, снотворное или укол какой?
- А что это даст? Потом еще хуже будет... и потом, ты же знаешь его, он весь, как зверь, подозрительный становится, не подступишься...
- Да, с ним тяжело, когда он такой.
- Вот и я про то. Но что же делать, Левушка?! Я уж, кажется, на все готова, как подумаю только... ведь это дурь, ведь дурь же самая настоящая!
- Без сомнения, и еще какая! Но я не знаю, Любань, не знаю, ничего в голову не приходит... Как его спасти? Не знаю!
Она замолчала, собираясь с духом... потом сказала;
- Лев, а Лев?
- Что?
- Помнишь, как в Баковке у вас гуляли, на масленицу? Ты еще там с твоими ребятами прикалывались?
- Ну, помню,
- Лев, а Лев?
- Не пойму ничего, говори проще.
- Ну, такие классные из вас "калики перехожие" получились! Помнишь, еще бабулька какая-то разжалобилась, глядя на вас, помнишь?
- Хм...
- Ле-о-в...
- Артистов моих, что ли, подкормить предлагаешь?
- Ты гений, Лева.
- Ну, ты даешь, Любаня, однако.
- А что?
Он вдруг разразился заливистым смехом (издевательским, как ей показалось) и также резко оборвал его:
- Да нет, это не возможно.
- Вы же с детства с ним вместе, Лев. Ты же знаешь, он тебе всегда все прощает... Ты видишь, куда он катится, ты же друг ему!
- "Друг"... Там у него теперь другие друзья.
- Ле-ва!
- Ну что "Лева"? Что?! Остался последний шанс:
- Ничего... Ничего, Лева. Хрен с ним, пусть пропадает. Извини.
- Сказал бы я тебе за такие слова!
- Ты прав, Лева: кого колышет чужое горе? Ладно, живите долго...
- Сколько там мест?
Она молчала.
- Сколько, ну?
Без ответа.
- Ты можешь ответить?
- Стульев восемнадцать штук. Один он за собой оставил.
- Значит семнадцать... многовато. Где ж он их столько наберет-то?
Любаня затаила дыхание.
- Надо подумать. Люба... Это все не так просто. Она ждала.
- Ну и денек сегодня. Ой чую, что-то будет... Она ждала.
- Ладно, сколько у меня времени?
Почти все готово уже, щи варятся... Он ждет Григорича, чтобы послать за этими...
- Григорича? -Угу.
- Тормозни его. Сама понимаешь, из меня шестнадцать копий не выйдет. Надо решить в принципе: основных ребят сагитировать...
- Как скажешь.
- Ладно, жди звонка,
Вот теперь можно было выдохнуть, Любаня вышла из тени и отправилась в дом сторожить Григорича:
Только бы получилось. Господи! Только бы получилось!..
VII
Лева рассуждал трезво: "Все в общем-то вполне реально. Если этот "номер" удастся, все останутся "при своих": он доволен тем, что сподобился побыть "благодетелем", Любаня - тем, что спасла свою мебель и дом, ребята - супер-акцией (высший класс исполнения, между прочим) и даровыми харчами, а я - тем, что исполнил свой долг, и что все закончилось благополучно (хотя, конечно, маловероятно, что все пройдет так уж гладко, слишком уж мало времени на подготовку), а если не удастся... А если не удастся? Если сорвется, с ним приступ, инфаркт или, не дай Бог, похуже... виноват буду я? Нет уж, лучше тогда изначально избрать вариант, как бы это сказать... не с розыгрышем, а скорее с заменой... да, с заменой, как говорят спортивные комментаторы, "смена состава". И ребят соответственно настроить, так чтоб не переигрывали. Выбрать очень точно момент (но не сразу, для начала надо будет продержаться "бомжами" минут двадцать), потом прервать это действо и сказать, (думаю, сумею ему это сказать, думаю, что сумею. Без надрыва и пафоса. Но тихо и горько.), примерно в таком духе: "Да, это я, Олег, - твой друг. И со мною те, многих из которых ты знаешь, наверное, то есть, думаю, те, которые по-твоему не заслуживают такой милости и такого пира (стол-то наверняка богатый будет, не станет он прижиматься, уж я-то знаю), мы те, которых ты считаешь куда более благополучными, мы ведь те, которые ни в чем не нуждаются, в сравнении с теми людьми, которых ты хотел бы здесь видеть, ведь так? В твоих глазах мы, разумеется, недостойны такого внимания и сострадания, нам ведь все пофигу, мы безнадежны, мы настолько пропащие души, что на нас не стоит и тратить время, мы умеем только хохмить, высмеивать и кривляться, для нас нет ничего святого... и пусть так! Но Олег, неужели мы действительно настолько вот безнадежны? Конечно, дело не в пище, не в угощениях... да, у них пустой желудок, но у нас-то - пустая душа! Да, они бомжи плотью, но мы-то - душой! Ты, наверное, считаешь что тебя обманули, что над тобой посмеялись? Нет, Олег. Ты видишь - никто не смеется. Тут не до смеха, все намного серьезней.
Мы пришли не хохмить, мы хотели, чтобы ты понял нас, мы хотели этим сказать тебе, что мы намного грешнее, намного хуже, но и намного несчастней тех, которых ты ждал здесь... а кто, скажи, дальше из нас от Бога: мы или они? Им воздастся за их страдания, за болезни, за голод и холод... А нам? Что нас ждет, веселых и сытых? Что нам предстоит? Прости. Просто стало больно, когда узнал от Любы, что ты хочешь собрать в свой дом бомжей. Я сначала подумал: ну что ж, пусть будет с теми, кто ему дороже и ближе, но потом... Вспомнил все наши годы, наше детство... Все же решил, что друг не вправе вот так отвернуться от друга, что он неизмеримо несчастней их, что он тоже может пропасть без твоего участия, без твоей любви, без поддержки... Прости меня. Я неверующий, неправославный, я даже не знаю, какой ужасный грех на мне за этот поступок... может, здесь много гордыни, ревности, даже зависти, и, скорее всего, так и есть... Но прошу тебя, не отвергай меня, не лишай меня дружбы. И не обижайся на нас за этот маскарад, никому не известно, что будет с нами: сегодня мы - в цивильном, завтра - в рубище..." В таком духе. Я сумею сказать ему это. Я сумею срезать головки его "одуванчиков", так, что они не качнутся, даже не почувствуют этого. Да, Олег, я сделаю это. Я не отдам тебя попам и бродягам. Один у нас путь с тобой, старичок, один!"
Лева вдруг понял, что это - слава... "Это такой классный экшн! Такая акция, о которой будут говорить и писать на каждом углу, будут ставить спектакли, фильмы!.. На этом себе можно, пожалуй, сделать громкое имя!" Прекрасно понимал и то, что по сути мало чем он рискует: "Ну не выйдет же он из себя, он же христианин, христианам должно смиряться, и он смирится (Леве однажды уже приходилось видеть его таким), он даже расстроиться не успеет... а что расстраиваться: я же "покаялся", все как один будут "грешные" перед ним, "с повинной", так сказать. Простит, я знаю его...
Ну, а если не простит, если он настолько уже "их" стал, то в конце-то концов!.. Тогда уж все равно: он умрет для меня, я - для него и точка. Вины моей нет, Люба сама подбила! Впрочем, такой исход вовсе не обязателен... Простит, куда он денется. А может, он вообще проглотит весь этот маскарад за милую душу, тогда зачем раскрываться?"
С "массовкой" предстояли сложности. Правда, четырех своих протеже на радиостанции (его же бывших выпускников) долго уговаривать не пришлось, но самое главное - неожиданно легко согласились на эту безумную авантюру Аркаша и Денис (мастера куража и эпатажа, прикинутся кем угодно. это костяк, это залог успеха, это старые партнеры еще с совковых времен), плюс проверенный кадр -Фаина! Так что "сборная команда бомжей" приобретала вполне реальные очертания, не такая уж это проблема оказалась. К тому же весть о некоей "супер-акции" как-то быстро разнеслась по знакомым, и он, как будто нарочно, стал натыкаться на тех, кто был нужен и не нуждался в дополнительной аргументации. Мало того, разыскивали уже его самого и упрашивали взять с собой несколько ребят с телевидения (тоже проверенные кадры: виртуозы "подставы" с разных ток-шоу типа "Крик души", "Человек в маске", "Один из нас" и т.п.), и получалось, что уже набирается человек двенадцать-тринадцать. Но скоро напросились еще и еще... Ничего удивительного. Это же Лева - шоу-мен, блестящий профессионал, на радио автор и ведущий популярных программ, да и на телевидении он, как у себя дома и вся эта братия знает, что, если Левик что-то готовит, то это будет стоящее, что-нибудь рейтинговое или скандальное. "Бомжих" пока набралось всего лишь пять (а куда их больше?) Предвкушалось что-то необычайное, все были возбуждены, примерялись и конструировались "обноски", стоял хохот и гвалт, а самым хитовым слоганом стал: "Халява - святое дело!" Глядя на это бурлящее "отребье рода человеческого", Лева вдруг вспомнил Любаню: "Посмотрела бы она на то, как ее бабья выдумка наполняется "плотью и кровью", как говорят - материализуется в пространстве и времени... Да, что-то будет", - подумал он зло. Отступать было некуда. Он позвонил Любане и узнал, что Григорич сейчас у Олега.
- Уж полчаса все инструктирует его, - сказала она.
- Пусть себе инструктирует на здоровье, теперь, думаю, уже все решено, машина запущена. Где-нибудь через час мы будем в полной боевой готовности. А Григорича, как выйдет от него, тут же свяжи со мной, я имею поговорить с ним...
Действительно, с Григоричем уладилось быстро и без проблем. Она видела, как он слушал изумительно-барский Левин рокоток: вначале насупился, пару раз пытался что-то сказать, но потом уже только кивал и поддакивал. Возвращая трубку, он посмотрел на Любу с долгим нескрываемым любопытством, что возмутило ее, и окончательно взбесило, когда услышала от него, уходящего:
- ... Не ведают что творят, люди... Но Лева успокоил ее:
- Он больше не опасен, не боись, возникать не будет.
- Лева, я умоляю тебя, только без запахов, без этой жуткой вони, меня же сразу стошнит! Я нажгу гам ароматных палочек, не имитируйте ничего такого, прошу тебя...
- За кого ты нас принимаешь? Мы "бомжи" благородные, не шибко вонючие, но... голодные! Кстати, как там с яствами? Шампанское будет?
- Ты что, чай, соки, кофе...
- Я шучу. Короче говоря, к шести тридцати наша бомжистость станет соответствовать всем принятым Госстандартам, и думаю, заслужит самую высокую оценку международных экспертов... Ох, Люба-ня!
- Лев, я уверена, все пройдет как надо. Сколько вас там?
- Пятнадцать. В результате "естественного отбора" и конкуренции.
- Пятнадцать, - прикидывала она, - тогда, может быть, рассадить так, чтоб у него справа и слева никого не оказалось рядом.
- На то и рассчитано, Любаня.
- Ты гений, Лева. Я выйду встречать вас к шоссе, часиков в семь, хорошо?
- Думаю, да. Да, в семь нормально.
- Жду тебя, Левушка, у поворота.
- В шесть тридцать - контрольный звонок, - сказал он чужим голосом.
- О' кей.
Она поднялась к мужу.
VIII
- Олег...- Любаня смотрела как надо, - в общем, я тоже хочу быть там. Я буду смотреть за порядком, помогать Алисе... если можно.
- Можно.
- Мы с ней вдвоем вполне управимся.
- Не сомневаюсь,
- Там почти все готово. Я послала Камарика за салфетками.
- Спасибо, родная, за все. Я знаю, тебе нелегко сейчас.
- Я пойду?
- Побудь еще.
- Как ты себя чувствуешь?
- Ничего, нормально. Сядь ко мне.
- Ты выпил лекарство?
- Сядь ко мне.
Она подошла и села, и он тотчас привлек ее и положил на грудь... "Хорошо, что у нас нет детей, -думала она, - я бы точно с ума сошла". А он дышал ее волосами, целовал макушку...
- Тебе так нельзя, тяжело, - сказала она.
- Наоборот, - сказал он.
- Когда все пройдет, мы выберемся, наконец, в Сестрорецк? Ты обещал.
"Скорее бы кончился этот ужас", - подумала она.
- "Когда-все-прой дет"... - проговорил он вдруг. Она резко выпрямилась и села, глядя в упор:
- И что? Что?
- Тогда все и будет, - улыбнулся он.
- Олег!
- Их-лебедих! Не сойти мне с этого места.
- Да ну тебя... - "Показалось", - решила Люба-ня.
- Ко мне сейчас отец Афанасий придет... ты собери там чего-нибудь сладенького.
- Он что, тоже будет?
- Нет, он потом уйдет. К нему сноха приехала с внучатами, на два дня.
Любаня встала, поправляя прическу.
- Хорошо, - сказала она.
- Если народ соберется, то начинайте без меня, не ждите. Я потом уж.
- Хорошо, - она поцеловала его в лоб и вышла.
- Родная...
Батюшка пришел, заметно запыхавшись, немного расстроенный или уставший.
Олег Васильевич привстал для благословения и поцеловал его большую пухлую руку, но не отпускал ее...
- Что это Вы, голубчик, умирать надумали? Ну? - сказал ему отец Афанасий и тут же увидел, как затряслись и запрыгали плечи и что-то обильно горячее и влажное обожгло ему руку.
- Ну что Вы... ну что Вы, голубчик, - говорил он.
Олег Васильевич и сам не ожидал такого, но не мог уняться, да и не хотел теперь, от все сильнее бивших его рыданий...
"Чго за день сегодня, - подумал батюшка, - одни скорбящие".
- Ну что Вы, - он коснулся его головы - и неуверенно погладил...
IX
Григорич, придя домой, не сломался, почему-то все-таки не сломался... вдруг сильно раскашлялся и затушил окурок: "А ты еще докажи, Лев Матвеич, что это именно я собаку-то отравил... да он, поди уж, и забыл про Лабрадора этого... Хотя тебе Васильич поверит, а уж когда и Любаня узнает, она меня с дерьмом съест за любимого пса своего! Ей только дай повод, не остановишь! Тогда - прощай работа... Не пойму только, где это ты, Матвеич, собрался бомжей искать? Да ты их видел ли, милый, в кино что ль? И эта с ним заодно... Туда же. Ты собаку-го свою, Кардифа покойного, и то по сто раз на дню обтирать заставляла, нос воротила, а тут бомжаги! С ними пяти минут рядом не выстоишь! Странно. Странное дело. Что-то тут не то, не то. Ну, кого мне тут слушать? Кого? Леву? На нем пробу ставить негде, он же артист. Лева-то, арти-и-ст... устроит еще подмену какую нибудь... затейник ты наш. А что: соберет там охламонов своих, мало что ль их, проходимцев? Они могут. Это уж подлянка получится, Васильич, насмешка какая-то. Не верю я ему, Васильич, Леве твоему, что хочешь делай! Будет тебе тогда пир, с шутами гороховыми... Господи, неужто правда? Ну откуда ж он тогда возьмет их? Может, через милицию какую-нибудь знакомую? Тогда конечно... А если подмена? Я ж тогда!.."
Григорич схватил с вешалки куртку и вышел на улицу. Подошел к "Газели", оглядел ее вокруг, сел в кабину... ухмыльнулся: "И вот тебе, Лев Матвеич, соломоново решение: ты давай своих бомжей ищи, а я - своих, так-то лучше будет. Вот и наберем. Их сколько ни набери - лишних не будет, там на всех хватит. Так что, с Богом! А то совсем душа не на месте..." Он включил зажигание, вырулил сначала на параллельную улицу, а потом, без помех, на еще не освещенное шоссе, и прибавил газку... "Начнем с рынка, вроде они там всегда кучкуются, потом на станцию... а там посмотрим, там видно будет. Вот такой "лебедих", Васильич".. Ну убил я эту собаку твою, Лабрадора этого, Васильич! Я убил, я! Достала она меня, сил с ней не было никаких! А тебе, ну не мог я жаловаться, из-за Любани твоей, ты ж понимаешь. В общем, делай, что хочешь... Но бомжей я тебе доставлю, как договаривались, в лучшем виде! Ведь такое дело святое затеяно, а я в стороне! Да и кто он такой этот Лева?"
У Любани не то чтобы портилось настроение, ее раздражало то, что их с Левой гениальная затея все меньше начинает ей нравиться. Чувство мстительного удовлетворения непонятно почему убывало с каждой минутой, и потому нуждалось в постоянной подпитке наиболее кошмарными подробностями "вонючего нашествия", представлявшегося неизбежным еще пару часов назад. И теперь ей приходилось прилагать все больше усилий: "Я права, права, - твердила она. Ты права?.. Я права, я права, я права..." Она то и дело посматривала на часы в гостиной, сама разожгла камин... проходя мимо стола, взяла с вазы банан, очистила и стала есть, глядя в окно. Не замечая вкуса.
X
Олег Васильевич исповедовался, старательно припоминая все, что пряталось в нем с детских лет, все, что стыдилось когда-то вспоминаться, до последних мелких обид и оплошностей, и все боялся оставить чего-нибудь недосказанным... Отец Афанасий сидел рядом и слушал. "Господи, помилуй раба Твоего", - произносил он время от времени, но что-то мешало ему примирить в своей душе два таких странных, хотя как будто логически взаимосвязанных обстоятельства: стремление этого человека устроить во чтобы то ни стало (по какому то подозрительному обету) угощение для бездомных, и в то же время, - его непонятно откуда взявшуюся болезнь и убежденность в своей близкой кончине... Он слушал этот негромкий голос. Перед ним была насмерть испуганная душа, почуявшая приближение чего-то неведомого, окончательного и бесповоротного. А дома отца Афанасия ждали внуки, его любимые озорники, и сноха - "самая любимая доченька"...
Внизу стукнула дверь, и вслед за этим постукали и покатились вразнобой шаги, не сразу затихая и накапливаясь где-то в углу под ними. Олег Васильевич замолчал и посмотрел на батюшку. Батюшка встал и покрыл его голову епитрахилью. Олег Васильевич ощутил на затылке знакомую прохладу плотной и гладкой материи, от которой сделалось ему затаенно и мирно, и закрыл глаза. Сверху легла на голову большая рука, дыханье его оборвалось, он не успел опомниться, как все испарилось, исчезло в одно мгновенье. "Господи... это Ты... Господи? - душа забилась, как пушинка под ветром, но удержалась, удержалась таки, и страх отлетел, - Господи, это Ты!.."
XI
Любаня, встретив машины с Левой и его "бомжами", ничего кроме лишней тяжести на душе не почувствовала, войдя, она кивнула Алисе и та, ни слова не говоря, пошла на кухню.
- Все спокойно?- осведомился Лева.
- Пусть все будет, как будет, - сказала она, -только бы все это кончилось.
Поскорее!
- Что за настроения? А?- сказал он нервно, -или что-то случилось?
- Ничего не случилось, голова какая-то... давление, наверно.
Григоричу с рынком не повезло, никого он там не сыскал, наткнулся разве на пьяного в грязи мужика и бродячих собак. Но на станции, под навесом в конце платформы, обнаружил неожиданно целую группу бродяжек, - человек десять с женщинами и детьми...
Отец Афанасий ушел. А Олег Васильевич все так и лежал после причастия. Что-то творилось с ним... Самое удивительное было то, что он совершенно не чувствовал себя больным. Легкость пуха во всем теле и никаких ощущений и боли! Он резко поднялся, вскочил на ноги и засмеялся. Расставил стулья и отжался меж ними, снова чувствуя силу, и не выдержав, затряс кулаком, как счастливец, за бивший победный гол... "Ну ты, как пацан какой, Олег Васильич, не солидно", - пытался он отдышаться... посмотрел на часы:
- Пора. Уже собрались, поди.
Олег Васильевич вышел из комнаты вполне владея собой (но сердце прыгало!), стал спускаться по лестнице и тут же едва не расшибся - погасло внезапно... он пошатнулся и схватился за перила руками. "Ну вот, и свет вырубили, - догадался он, - и, как всегда, в неподходящий момент".
Любаня со свечкой молча подала ему руку, и он сошел со ступенек, сжимая ее холодные пальцы. "Пустяки. Теперь все - пустяки!" - с таким настроением вошел он в гостиную и увидел, наконец, стол и сидящих за ним людей.
Горели свечи, прерывисто, зыбко. Свет плясал по столу, по темным фигурам... Все начали привставать, двигать стульями, он останавливал их, просил садиться, здоровался, желал "приятного аппетита" и "не стесняться". Дошел до своего места и сел, и ощутил со спины блаженное тепло камина... Все было так, как он и представлял себе: гости понемногу осваивались, прилежно отхлебывали и чавкали, дымились щи и пельмени, и руки уже шарили по та-релкам, и сходу припрятывались куски... "Как хорошо, что погас свет, - подумал он, - так даже лучше". И совсем не чувствуется запаха, это от Любиных палочек, наверное, ну и отлично... Какие у них ужасные лица... Ай да Григорич, и где это ты понабрал их?"
XII
Григорич битый час уговаривал на платформе хмурых бомжей. На него смотрели, как на недоумка, хотя некоторые вроде и колебались, но всем было странно и непонятно: с какой такой радости кто-то их станет кормить-угощать, да еще одарит потом продуктами и деньгами? Григории понял, что все зависит от их "главаря" - от этой, средних лет, женщины с опухшим надменным лицом, и переключил на нее все свое красноречие:
- Ну, чего тебе бояться-то? На машине вас довезу, сами убедитесь, не понравится - привезу обратно, в любом случае привезу, всех, сколько есть, ну? Он же верующий человек, богатый, решил вот вас чем-то порадовать, помочь вам... что тут такого невероятного? Милая, да он не то что человека ни одного за всю жизнь не обидел, он... вот сама увидишь, я уж шесть лет у него, что я вру тебе? Ты ж знаешь людей-то, повидала, что я тебе маньяк что ль какой? Ну?
- Повидала! - вдруг вскинулась баба - Повидали мы как-то, так же вот пригласили: и закусь какая хошь и налили - хоть упейся, и что? Что с нами сделали-то, знаешь, потом? Я даже говорить не буду... втроем только живы выбрались: я с Фатюшей да Колька Суббота, один плащ на троих, босиком, и тут, здесь-здесь-вот, живого места нет! Повидали! Привози сюда хавку и уезжай, тогда поверю...
Время шло, Григорич срывался на крик, выдумывал гарантии, обещал, и все было без толку, вдобавок кто-то проколол ему два колеса, и после этого ему окончательно стало ясно, что с бомжами ничего с получится.
- Господи, Твоя воля, - простонал он. - Так-то, Васильич, видно не видать тебе сегодня никаких
бомжей... кроме Левиных. Хоть бы уж у него получилось с ними!..
XIII
"Какие ужасные, испорченные лица", - продолжал он разглядывать своих гостей. - Но ведь люди же. Люди. Надо обязательно одежду им подыскать... Пристроить бы их как-то. Всех, конечно, не удастся, но кого-то можно попробовать. Вот с этим точно не получится - с другого торца. Который напротив - этот конченый... жует-то как - как животное...."
Лева сидел насупившись, едва справляясь с приливами лютого бешенства. Старался не упустить ситуацию:
"А доволен-то как, ах ты, батюшки! И это все, что тебе было нужно, Олег? Да ты и впрямь дитя, уж так доволен, счастлив прямо... ну я рад за тебя. Все, как тебе и представлялось, да? Посмотри, посмотри на "несчастных бомжей", видишь, какие они на самом-то деле? Жалко их, правда? Конечно, жалко, что ж мы, не люди, что ль?! Противно смотреть на тебя, дурака юродивого. Ничего, скоро тебе будет еще лучше..."
Настораживала Леву пока одна Любаня. Она стояла в проеме окна, опершись на колонну, иногда подходила к столу, подтирала, уносила посуду, ни улыбки, ни слова, ни взгляда... "Но с другой стороны, а как ей еще вести себя? Только бы не сорвалась. Да, скажу я вам, что же здесь все-таки делается, кто бы видел, а? Жаль, камеры нет... Аркаша с Денисом классно работают, собаки, просто супер! Небось, давятся от хохота втихаря, поганцы. Гомона, гомона маловато, какие-то зажатые все..." Он дал понять это через ближних "бомжей", и мало-помалу завертелись засаленные плечи и спины, народ активнее захлюпал, застучал ложками, загомонил, стал ронять что-то на пол, подбирать, тянуться через стол, ссориться, кашлять... "Старики" ели жадно, не стесняясь, женщины же с оглядкой на окружающих и на хозяев, стараясь не терять то женское, что еще в них оставалось, но пальцы бегали неудержимо, хватая и пряча в карманы и сумки дармовую закуску. В середине стола раздалась брань и возня, но подоспевшей Любане удалось все быстро "уладить" и рассадить "драчунов" подальше. "Кто-то заскулил... и вдруг все смолкло.
Олег Васильевич встал и обратился к гостям:
- Мне хотелось сказать вам несколько слов. Вы ешьте. Я буду говорить, а вы ешьте. Одно другому не помешает. Я хочу сказать вам вот что. Мы - люди... Полчаса назад мы не знали друг друга, не были знакомы. У вас была своя ужасная, жестокая жизнь, у меня - своя. Но теперь мы сидим здесь вместе, за одним столом, и у нас теперь как бы одна с вами жизнь, по крайней мере, вот на это время. Я хочу, чтобы между нами не было различий, чтобы уже не играло роли, кто здесь каждый из нас но жизни, потому что мы - люди. Понимаете? Мы - люди, мы еще здесь, в этом мире. Мы еще в этом мире, от которого, когда мы были юны, когда он только открывался перед нами, мы ждали столько радости, столько необыкновенного, все было впереди... мы ждали счастья, мы не знали, какого именно и в чем оно заключается, но без этого, без ожидания этого, без этих мыслей, кто начинает жить? Кому захочется жить в начале жизни, если ему сказать, что у тебя не будет счастья, что всю свою жизнь ты будешь мучиться и страдать, и умрешь в болезнях, в нищете, среди других людей, которым не будет до тебя никакого дела? Кто захочет жить после этого? Кому хватит на это сил? И вот мы с вами те, которые могут сказать о себе: "Да, я пожил, я знаю, что такое бывает жизнь и как она умеет заманивать, ластиться, поворачиваться, как она умеет безжалостно бить, без остановки. Как она может доводить до отчаянья, до крайнего безразличия, до полного равнодушия к ней самой... И поэтому я могу говорить о ней правду, ибо знаю ее". И вот мы собрались здесь, как на некоторой краткой остановке, как среди поля, случайно, укрывшись под деревьями от непогоды. Вот мы - люди. И не потому, что из одного "теста", но еще потому, что все мы идем Туда. Все ближе и ближе к тому неминуемому Туда, где начинается неизвестность...
Да, мы где-то родились, росли, где-то жили, но это не имеет никакого значения, потому что мы - Туда, мы смеялись, страдали, терпели, но даже это, оказывается, не главное, потому что мы - Туда, и мы сидим сейчас вместе, мы пока еще здесь и мы, наконец-то, заговорили об этом, потому что нам - Туда. Кому-то не хочется думать об этом, кто-то находит себе другие мысли, потому что знает, что и ему, все равно - Туда. Туда... Мы те, которым - Туда. Так вот я и думаю: что для нас все-таки главное? То, что было? То, что есть? Или то, что будет? Я верующий, и поэтому знаю, что есть Господь. Правда, знаю. Я хочу вам сказать, что среди вас есть те, которые не верят, что существует другая жизнь, и я знаю, что они думают, потому что я тоже так думал; что если умру, то меня просто не будет... и ничего не будет - ни радости, ни боли, а просто пустота - бесконечная и мертвая. Как пузыри на лужах во время ливня - появляются и лопаются. Но мы не пузыри. Не думайте так. Так хочется думать оттого, что нам страшно...
Лева был вне себя: "Сейчас, сейчас, - говорил он себе, - пропади все пропадом, я встану, хватит с меня!"
Любаня дважды ходила мыть руки, никак не могла отделаться от чувства брезгливости и омерзения, но уйти было нельзя. "Скоро все кончится, скоро все кончится..." это было единственное, что удерживало ее от истерики...
- Именно оттого, что страшно, - повторил Олег. - Мы разные: мы добрые, мы ленивые, гадкие, всякие, но мы - бессмертны, Я хочу сказать, что мы не чужие, я хочу сказать, что кроме нас, у Него никого больше нет, мы одни у Бога - вот такие, какие есть, других нет... все мы Его, до единого, понимаете? Мы говорим: "Если б Он был, разве нам было б так плохо? Разве мы могли быть тогда плохими? Да лучше нас никого бы и не было!" Но лучше нас у Бога и нет никого, - мы самые лучшие, самые дорогие и есть для Него! Только мы не хотим быть Его. Мы хотим, чтобы Он был наш, а мы - сами по себе, как нам вздумается. Но Ему больно, понимаете? Он - Отец, Он все это устроил, все нам отдал. Ему очень больно... А нам лучше? Нам что - хорошо без Него? Нам больно, мы злимся, и вот протягивается Отцовская рука, и мы каждый раз кусаем ее, никого не хотим иметь над собой! И продолжаем выть от боли, от страха...
У меня был такой случай: пригласили в гости. Дом старинный, престижный, хозяева - под стать ... Не просто так пригласили, конечно. Ну, посидели-потолковали, все хорошо, прощаюсь, подхожу к лифту - занят. А что, думаю, пятый этаж всего, прогуляюсь - не в "горку" же, а с "горки". Спускаюсь, слышу плач: этажом ниже открытый лифт, и в нем два малыша - один совсем кроха, годика три, другой чуть старше. Ревут - заблудились: только-только переехали в этот дом и забыли какой этаж, вернее, на какую кнопку мама велела нажать, вот и катаются после гулянья ... И все им незнакомое кажется, не узнают этажа своего и все тут. Что с ними делать, не бросать же их в горе таком? А ведь горе, подлинное горе великое, для них-то: отца с матерью потерять! в дом родной не попасть! "Ладно, - говорю, - сейчас найдем вашу квартиру". Вы бы видели, как они поверили в меня! Как потянулись, с какой надеждой! Особенно малыш - тот вцепился в брюки кулачками, не отдерешь. Вот я для них бог был, настоящий спаситель, понимаете? Ну, стали ездить, ходить, вверх-вниз, звонить-стучаться... А в девять этажей домина! Наконец, нашли: на том же пятом этаже, представляете? Сдал я их мамаше, с рук на руки... Вот, я сейчас вижу себя в них - в этих малышах, ведь мы забыли, где дом наш, забыли! И если еще не плачем, то скоро, скоро завопим - вспомнит душа, да вот найдем ли проводника, успеем ли?.. Наш дом Там, у Отца, понимаете? На земле ничего не найдем. Будем стоять и плакать, как дети, и всего только два пути у нас: либо вверх либо вниз... Я хочу, чтобы была у нас Радость, потом, когда мы уйдем отсюда... Я хочу, чтобы мы опять собрались, но в Том, Отчем Доме, никого не потеряв..."Всяк человек загадка", но кто бы вы ни были, я люблю вас. Вы пришли в мой дом, я действительно рад вам, рад, что между нами нет ни лжи, ни зла, ни вражды... все равно...
Лева чувствовал, как уходит земля, как цепенеют ноги и мышцы... "Остановись, Олег! Идиот, я сойду с ума! Остановите его!!.."
В саду полоснуло дождем, ветер поднял несколько листьев и бросил в окна.
Олег устало улыбнулся и сел. Так он сидел с минуту, с опущенной головой, ему не хотелось... он боялся посмотреть туда - прямо перед собой, на другой конец стола. Он все-таки поднял глаза и увидел Леву...
Никто не ел, все сидели и ждали чего-то. Олег почувствовал, как кто-то с силой сдавил его сердце, как тельце синички, которое сжимал он в детстве, невыносимо: "Господи... не наказывай их, они как и я. Такие же, как и я... Господи, зачем все так глупо!.. Господи..."
Первая не выдержала Любаня. Лева видел, как она направилась к мужу, как стояла над ним, склонившись... Его разбирал смех. Необъяснимый безудержный смех... Он громко прыснул и закатился в беззвучном хохоте, глядя сквозь наплывающие слезы на Любу, уже идущую к нему. Он даже знал, что она сейчас скажет. Он ждал от нее этих слов…
Она подошла и сказала:
- Лева, он умер.
XIV
Барсик лежал на подоконнике. Он дергал ушами в сторону непонятных шорохов с улицы и давно уже понуждал себя встать и разобраться с этим вопросом, но не мог перебороть в себе послеобеденной лени, наконец, он поднялся, подкрался к краю и мягко спрыгнул в палисадник.
- И еще по одной, а? Не откажите, - обратился к благочинному отец Афанасий.
Он подлил в его чашку вишневого цвета заварки, поднес ее к самовару, открыл крантик, заполнил ее кипящей струйкой до золотистого ободочка, и снова поставил перед ним на блюдечко, придвинувши к нему заодно и вазочку с пышным домашним печеньем... Было душно, как бывает перед грозою, в открытые окна медленно заплывал тополиный пух.
- Видите ли Вы этого человека, - показал на кого-то, стоящего среди богомольцев, отец Афанасий, - это наш Левушка, удивительный нищий! Психически не здоров - дурачок, но все любят его. Благостная душа! С ним у меня связано одно драгоценное воспоминание. Необыкновенное, скажу я вам. Каких-нибудь полминуты всего, но каких! Четыре года назад довелось мне быть в доме своего прихожанина. Позвонил, а ко мне, помню, как раз вот Танюшка с внучатами приехали, ну делать нечего, беру Святые Дары... Заболел, знаете ли, вдруг (благочестивый человек был, из "новых"), с утра еще здоров был, и вот, все в один день, упокой его душу, Господи. Причастил, конечно, спускаюсь вниз (там у них гостиная была) и застываю, знаете, прямо перед Евангельской картиной, помните от Луки: "Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых..." - вот все точно так. Стою я и вижу прекрасно убранную комнату, ковры, горящие свечи, блеск стола и страшных, ужасных каких-то нищих, сидящих за ним, - поразительное зрелище! И все они, как в той самой притче, собраны по воле хозяина дома, которого я только что исповедовал, дело, согласитесь, исключительное в наши дни, не так это просто, если подумать. И вот стою пораженный, а ближе всех ко мне, как раз-то и оказался Левушка наш (вот это и было мое первое знакомство с ним, и надо сказать уже тогда его болезнь довольно-таки заметна была), повернулся ко мне своей чудной улыбкой и смеется, смеется так озорно, и еще какие-то двое с ним, потом говорит: "Благослови, отче!" и тут все, как один, за ним: "Благословите! Благословите!" - кричат, повскакивали с мест, а Левушка, тот - бух на коленки и в ноги, да-а... Никогда не забуду. Всем, знаете ли, рассказываю, сподобился, можно сказать, видеть воплощенное Евангелие. Истинно!
- Да, интересный человек, даже как будто знакомый на лицо, - сказал отец Иоанн, глядя в окно, - видно, не без таланта был когда-то.
- А ведь Вы угадали, знаете ли, был, говорят, он артистом каким-то, на радио что ли, или на телевиденьи, точно не могу сказать, не знаю, но что-то такое... Да видно на этой почве и стронулся, ведь там нечестивое творят всякое, вот и плоды... в общем, обычный финал в наше время, - вздохнул отец Афанасий, - сам-то он ничего не рассказывает. Поговаривают, что его отстранили от эфира за то, что смеяться стал: как закатится, говорят, слова сказать не может, - хохочет, свихнулся в общем, жена ушла... Потом, говорят, с каким-то монахом ходил, даже на Кавказе был, в горах, что ли, жил. Не знаю уж... Потом побирался где-то на автозаправках, обижали его... ну и вот к нам прибился, с полгода как. Да он тихий. Больше всего петь любит, голос-то у него - ах какой голос! Бог даст, услышите. Вот только батюшки, знаю, жалуются, что он в церкви воспоет, не с хором, конечно. Не желаете его послушать поближе, мы заодно и угостили б его, с праздничком?
- Не знаю, удобно ли.
- Лева! Левушка-а! - крикнул отец Афанасий. Левушка, услыхав, что его зовут, тотчас обернулся и, широко улыбаясь, поспешил к окну.
- Только Бога ради, не выпытывайте у него про тот пир, что я Вам рассказывал, все равно ничего не добьетесь, начнет плакать и больше ничего.
- Да я, собственно, и не собирался этого делать, - сказал благочинный, пожимая плечами.
Скоро показалось в окне загорелое, не без какой-то особой приятности, лицо Левушки, сквозь спутанные с проседью волосы, блестели черные, необычайно удивленные его глаза.
Батюшка набрал со стола пряников, конфет с печеньем, и стал накладывать ему в скрещенные руки.
- Возьми-ка, дорогой, с праздничком. Покушай...
- Спаси Го-осподи лю-у-ди-и Твоя-а.., - затянул Левушка неожиданно красивым и густым баритоном.
Получивши благословение, он ответил им низким поклоном, да так и пошел восвояси, распевая и кланяясь на ходу всем встречным.
- Да, голос хорош, в самом деле, - признал отец Иоанн, провожая Левушкину спину, пропадающую в акациях, уже едва различимую в их сиренево-дымной тени.
А отец Афанасий стоял, поглядывая на своего гостя и улыбаясь с чрезвычайно довольным видом.
Еще слышалось, еще долетало до слуха пение, уходящее одноэтажными улочками пригородного квартала, куда-то вниз, к дороге между холмами, по которой выходит неторопливо через городские ворота и поднимается по каменистой, выбеленной солнцем земле небольшая толпа, мелькая пестротою одежд и оживленно жестикулируя - следом за Ним, за все еще видимым впереди
Человеком...
Малаховка, Декабрь 2000
* Евангелие от Луки, 14 гл., 75 стих.