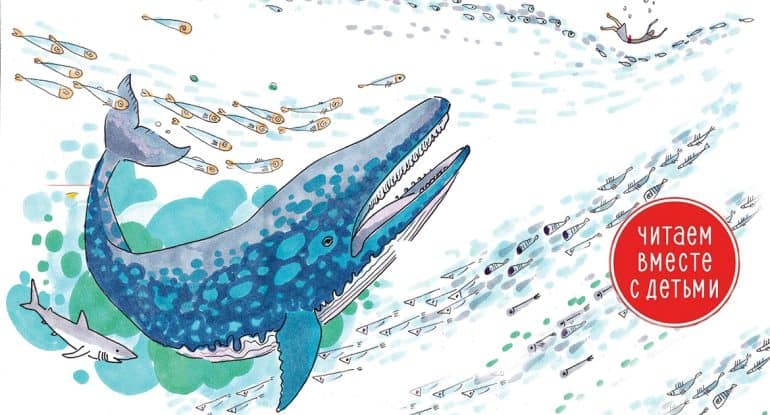Мы отправились пешком с Золотых Песков в Нестинары и по дороге на Ален Мак зашли отдохнуть в маленькое открытое кафе на склоне горы. Погода стояла чудесная, солнце еще не было жарким, внизу лежало спокойное пронзительно-синее море и справа, в сторону Варны, где растянулись вдоль шоссе маленькие виллы со смешными названиями, как пена, белели в чуть приметной розовой дымке цветущие сады. Возле перевитой виноградом стены кафе грелся на солнце новехонький «Альфа-Ромео» стального цвета, но в кафе не было ни одного посетителя.
Мы отправились пешком с Золотых Песков в Нестинары и по дороге на Ален Мак зашли отдохнуть в маленькое открытое кафе на склоне горы. Погода стояла чудесная, солнце еще не было жарким, внизу лежало спокойное пронзительно-синее море и справа, в сторону Варны, где растянулись вдоль шоссе маленькие виллы со смешными названиями, как пена, белели в чуть приметной розовой дымке цветущие сады. Возле перевитой виноградом стены кафе грелся на солнце новехонький «Альфа-Ромео» стального цвета, но в кафе не было ни одного посетителя.
Протоиерей Владимир ГОФМАН родился в городе Городце Горьковской (Нижегородской) области в 1953 году. Окончил Рыбинский авиационный техникум, а после службы в армии — историко-филологический факультет Горьковского государственного университета им. Лобачевского. 15 лет работал журналистом в различных изданиях. В 1993 году рукоположен во священники, а в 2000 году окончил Московскую духовную семинарию. Клирик Архангельского собора в Нижегородском кремле.
Мы отправились пешком с Золотых Песков в Нестинары и по дороге на Ален Мак зашли отдохнуть в маленькое открытое кафе на склоне горы. Погода стояла чудесная, солнце еще не было жарким, внизу лежало спокойное пронзительно-синее море и справа, в сторону Варны, где растянулись вдоль шоссе маленькие виллы со смешными названиями, как пена, белели в чуть приметной розовой дымке цветущие сады. Возле перевитой виноградом стены кафе грелся на солнце новехонький «Альфа-Ромео» стального цвета, но в кафе не было ни одного посетителя.
— Красота какая! — сказала я своему спутнику Максиму, который заказывал у стойки бара холодную минералку.
Он оглянулся и кивнул головой.
— Праскова цъфтя, — сказал, белозубо улыбаясь, молодой темнокожий бармен и махнул рукой в сторону моря.
— Что он говорит? — спросила я.
Максим, закончивший когда-то филфак, немного понимал по-болгарски.
— Говорит, что персик цветет.
Бармен покачал головой. Я уже знала — что у нас означает отрицание, у болгар имеет противоположное значение — согласие.
— Това цъфтят прасковени градини при морето.
Я улыбнулась болгарину и посмотрела на Максима.
— Персиковые сады, — перевел он, принимая от бармена две маленькие бутылки минеральной воды. — Это цветут персиковые сады у моря.
У меня сжалось сердце, и когда мы сели за столиком в углу с видом на море, я сразу заплакала.
— Что с тобой, что? — удивленно спрашивал Максим, а я ничего не могла сказать, только вытирала кулаками текущие по щекам слезы.
— Да что же случилось? — Максим подвинул свой стул ко мне, взял мою голову в ладони и стал целовать мокрые от слез глаза.
— Соленые! — улыбнулся он.
— Как море? — спросила я и по-девчоночьи всхлипнула.
— Как море. Они и цветом как море.
Я опять всхлипнула и глотнула холодной минералки из горлышка.
— Ну, так что случилось? Ты не можешь сказать?
Я достала из сумочки платок, вытерла слезы.
— Могу. Я тебе сейчас все расскажу.
Это случилось чуть больше десяти лет назад. Мне было тогда семнадцать лет, я только что окончила школу и поступила в художественное училище, когда тетя Таня, мамина подруга, повела меня в церковь креститься. Я добросовестно готовилась к этому событию, потому что креститься пошла сознательно, с большим желанием и трепетом. Перед крещением батюшка сказал, что воспреемников, то есть крестных, в моем возрасте иметь не обязательно, но я очень хотела, чтобы у меня была крестная, как у тех, кого крестили в детстве. И, разумеется, ей стала тетя Таня.
Тетю Таню я помню столько, сколько помню себя. Она всегда была рядом. Это она, когда маме было некогда, забирала меня из садика, а позже из музыкальной и художественной школы, это она водила меня на концерты и выставки, это она научила меня верить в Бога и читать первые молитвы.
Обе они — и мама, и тетя Таня — были одинокими женщинами. Мама и отец давно развелись. Отца я не помню совсем, а у тети Тани муж погиб в Афганистане, детей у них не было, так что я была единственным ребенком на двоих, и кто из них любил меня больше, — трудно сказать.
Мама и тетя Таня работали в музыкальном училище — мама преподавала фортепиано, а крестная — сольфеджио. Казалось бы, сухой предмет, но, если и так, то на крестной моей он не оставил отпечатка. Она была гуманитарием до мозга костей: любила музыку, живопись и поэзию. Теперь мне кажется, что это благодаря ей, а не маме, я стала художником. Помню, как она всегда плакала, когда читала пастернаковскую «Магдалину»:
У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые Твои.
Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Прядки распустившихся волос…
— Слышишь, Марина-малина — это она меня так называла — слышишь музыку? Как точно и пронзительно сказано!
Ничего я тогда не слышала, но за сердце эти непонятные строчки задевали.
Еще помню, как они с мамой пели Окуджаву:
…В городском саду флейты да валторны,
Капельмейстеру хочется взлететь…
Мне кажется, что ни у той, ни у другой не было мужчин. Наверное, это не так, но, во всяком случае, я никогда их не видела, если они и были.
Все вместе мы ходили не только на выставки и концерты, не только выбирались за город на дачу к другу погибшего тети Таниного мужа, но так же вместе готовились к причастию и посещали церковь. В то время уже никто не стеснялся ходить в храм, все больше на службах появлялось интеллигенции, тетя Таня с мамой встречали здесь много знакомых. Обсуждались уже известные книги Меня и только что появившегося Кураева (исполняет функции иностранного агента), а на магнитофонных пленках зазвучали песни иеромонаха Романа. Я была тогда погружена в эту атмосферу. Мне нравилось бывать на службах и испытывать радостное чувство легкости после исповеди, нравилось читать утренние и вечерние молитвы, большую часть которых я вскоре, не уча, выучила наизусть, а под гитару могла спеть не только окуджавские или митяевские песни, но и
Радость моя, наступает пора покаянная…
А дома в моей комнате исчезли со стен плакаты популярных групп, и даже обожаемый мной совсем недавно Ричард Гир занял место где-то между томиками Германа Гессе и Курта Воннегута в книжном шкафу. Зато появилась в восточном углу божница с множеством икон и лампадкой…Короче говоря, как неофитка, я делала заметные успехи. Но постепенно все пришло в норму, и я уже не мечтала о монашеском клобуке и далекой лесной обители на берегу озера. Jedem das seine. И — слава Богу.
Потом занятия в училище, рисование — вся студенческая жизнь — стали отдалять меня от церкви. Если бы не крестная, я таким образом отдалилась бы весьма далеко. Но она напоминала мне о самом главном — всегда ненавязчиво и мягко. И снова втроем мы шли в храм, исповедались и причащались. Так хорошо было на душе, так спокойно и радостно.
На последнем курсе, когда тетя Таня заболела, я влюбилась. Любовь понесла меня как на крыльях, и я ходила, не чувствуя под ногами земли. И опять же своими секретами, переживаниями я делилась не с мамой, а с тетей Таней. Нет, разумеется, мама знала все, но такой откровенности, как с тетей Таней, с мамой у меня не было. Наверное, мама ревновала меня к крестной, но я не замечала этого. Мы все были очень дружны.
Однажды вечером, когда я вернулась из училища, мама сказала мне, что тетя Таня больна.
— Это серьезно, Марина. У Татьяны опухоль. И как показали анализы — злокачественная.
— Злокачественная опухоль — это рак? — спросила я.
— Да.
— И что теперь делать?
— Лечиться, конечно. Не унывать и на Бога надеяться. Ранние стадии в онкологии поддаются лечению.
Но стадия оказалась не ранняя, а слишком поздняя, чтобы победить болезнь. Думаю, крестная это понимала и, надо отдать ей должное, не теряла самообладания, не металась по разным целителям и экстрасенсам, как нередко и верующие люди поступают. Лечилась тем, что предписывали врачи, разве что в церковь стала ходить чаще и больше молиться дома.
Я, разумеется, и в мыслях допустить не могла, что тетя Таня может умереть. В двадцать лет кажется, что смерть, если и существует, то где-то там, за пределами круга родных и близких людей. Так, пожалуй, думает каждый, кто еще не встречался со смертью. Я бегала на свидания, сдавала зачеты и экзамены и совсем нечасто заходила навестить крестную. Даже не заметила, когда она перестала вставать, как сильно похудела, как потеряло краски и высохло ее милое, всегда такое живое, лицо. Однажды, помню, мама сказала, что тетя Таня держится на анальгетиках, обезболивающих средствах, а я беззаботно ответила, что крестная все равно поправится. Мама укоризненно посмотрела на меня и тяжело вздохнула.
— Нет, дочка, не поправится. Я говорила с врачом…Не поправится. Если, конечно, не произойдет чуда.
Чуда не произошло. Я никогда не сомневалась в том, что чудеса случаются, но надо ведь, согласись, прожить на свете чуть-чуть больше, чем двадцать лет, чтобы понять: случаются они не с нами и не с близкими людьми…К сожалению.
Как-то раз я зашла к тете Тане вечером. Зашла на минутку, потому что у подъезда остался ждать меня тот, в кого я была влюблена, — мальчик Толя, студент архитектурного факультета строительной академии. Помню, так и сказала ему: « На минутку. Не успеешь покурить, как вернусь».
Тетя Таня встретила меня как обычно, бодро:
— Ну, здравствуй, Марина-малина, как дела?
Я увидела ее пожелтевшее лицо, и у меня защемило сердце:
— Все хорошо, теть Тань. А как ты?
— И у меня все хорошо, девочка. С Божией помощью, жива.
— А как же! Ты обязательно поправишься, и мы поедем вместе в Троице-Сергиеву Лавру, как собирались, так ведь?
Крестная промолчала, а я хотела было уж признаться, что мне пора, когда она сказала:
— А у меня к тебе, Марина, просьба.
— Что-то принести?
— Нет. Просьба вот какая. Я недавно прочла в одной газете, что раковые больные исцеляются, если долго смотрят на цветущий персиковый сад. Ты знаешь, я мало верю таким советам, но тут что-то в душе у меня качнулось: так захотелось увидеть персиковый сад в цвету!..Жизнь прожила, а не видела, как цветет персик, даже не представляю этого, но очень хочу посмотреть…
— Теть Тань, так где же…
— Не бойся, милая, я не сошла с ума. Я вот о чем хочу тебя попросить. Ты у меня художник…У тебя впереди много-много интересных и оригинальных картин. А пока нарисуй одну. Для меня.
— А что надо нарисовать?
— Персиковый сад. Цветущий персиковый сад. Хорошо?
— Ладно, я нарисую, — не задумываясь, ответила я.
— Вот и замечательно. Буду смотреть на твою картину и представлять, как мы с тобой гуляем среди цветущих персиков…
— И будешь поправляться!
— А что, между прочим, китайцы считают, что сянь-тао дает человеку бессмертие.
— Сянь-тао?
— Ну да, персик. Есть такая легенда: персиковое дерево в садах богини бессмертия Си-ван-му цвело раз в три тысячи лет, а плод вечной жизни созревал в течение следующих трех тысяч лет. Кому удавалось вкусить этих плодов, тот становился бессмертным.
— Звучит заманчиво.
— Да. И красиво…
— Вот уж никогда не думала, что персик и есть то самое древо жизни!
— У разных народов — по-разному.
Я засмеялась.
— Ты, теть Тань, не классическую литературу, случайно, преподаешь?
— Нет, математику, — улыбнулась она. — Так что, берешься за работу?
— Завтра же и начну.
Тетя Таня хотела еще что-то сказать, но я перебила, вспомнив про бедного Толика.
— Теть Тань…
— Беги-беги, он уж заждался, наверно.
— Кто?
— Тот, кто у подъезда стоит.
Я восхищенно покачала головой.
— К тому же еще и экстрасенсорные способности!
— А то! Поболеть иногда полезно, дорогая моя девочка.
«Может быть, но не так, не смертельно», — подумала я, выходя на лестничную площадку. Когда я пришла к тете Тане через несколько дней, она сразу спросила о картине. А я, честно говоря, забыла о своем обещании и как-то отшутилась, дескать, ищу очевидцев цветущего персика.
— Ты знаешь, Мариша, — сказала она, — я, очевидно, убедила себя, что ли, в том, что мне поможет твоя картина. И я жду ее. Самовнушение — великое дело!
— Эффект плацебо.
— Вроде того.
Мне вспомнился рассказ О.Генри «Последний лист». Помнишь? Но в жизни не в книге — все проще и страшней. Это я уже, слава Богу, тогда начинала понимать.
 Где бы увидеть тот родник! В России живем. Ни с каким посохом такого родника не отыщешь. Мне искренне хотелось доставить радость крестной, я старалась и часами стояла у мольберта, закрывала глаза и пыталась представить себе цветущий персиковый сад, но воображение мое выдавало только вишни да яблони. Все мои книжные познания никак не хотели транспонироваться на холсте. Постепенно работа захватывала меня, но по-прежнему в том, что я делала, отсутствовало главное — живой цветущий персиковый сад.С того дня я принялась за картину. Первая трудность возникла сразу: я никогда не видела персикового дерева — ни без цвета, ни в цвету. Как оказалось, и среди знакомых не нашлось очевидцев. Полезла в энциклопедию, нашла в библиотеке спецлитературу — прочла все, что можно было о персике. Узнала немало интересного. Например, в мифологии цветок персика символизирует весну, женское обаяние, мягкость, девственность и чистоту. Не только у китайцев это дерево традиция связывала с бессмертием, древом жизни его называли и японцы, и многие другие народы использовали дерево персика в охранительной магии, изготавливали из него амулеты и талисманы, считая, что персик прогоняет злых духов. Даже у древних христиан персик с листом у черешка символизировал одну из добродетелей — молчание. Я нашла китайское стихотворение, которое заканчивалось словами:
Где бы увидеть тот родник! В России живем. Ни с каким посохом такого родника не отыщешь. Мне искренне хотелось доставить радость крестной, я старалась и часами стояла у мольберта, закрывала глаза и пыталась представить себе цветущий персиковый сад, но воображение мое выдавало только вишни да яблони. Все мои книжные познания никак не хотели транспонироваться на холсте. Постепенно работа захватывала меня, но по-прежнему в том, что я делала, отсутствовало главное — живой цветущий персиковый сад.С того дня я принялась за картину. Первая трудность возникла сразу: я никогда не видела персикового дерева — ни без цвета, ни в цвету. Как оказалось, и среди знакомых не нашлось очевидцев. Полезла в энциклопедию, нашла в библиотеке спецлитературу — прочла все, что можно было о персике. Узнала немало интересного. Например, в мифологии цветок персика символизирует весну, женское обаяние, мягкость, девственность и чистоту. Не только у китайцев это дерево традиция связывала с бессмертием, древом жизни его называли и японцы, и многие другие народы использовали дерево персика в охранительной магии, изготавливали из него амулеты и талисманы, считая, что персик прогоняет злых духов. Даже у древних христиан персик с листом у черешка символизировал одну из добродетелей — молчание. Я нашла китайское стихотворение, которое заканчивалось словами:
…Посох возьми
И возвратно, не торопясь,
Путь предприми
К роднику, где персик цветет.
Наконец картина была готова. Я закрыла ее куском ткани и целый день не подходила к мольберту. Утром позвала маму и сняла покрывало. Мы молча стояли и смотрели на мое творение.
— Что, мам, — спросила я, — похоже это на персиковый сад?
Она ответила не сразу.
— Знаешь, дочка, — неуверенно сказала она, — я никогда не видела, как цветет персик. Наверное, то, что ты написала, действительно похоже на персиковый сад, но…
— Что?
Мне хотелось услышать от нее то, что я сама не могла сформулировать, выразить словами свое ощущение. Но в то же время другая моя половина желала, чтобы мама одобрила работу, и на этом бы закончились все трудности, связанные с несчастным персиком, который в наших краях не цветет.
— Понимаешь…Тут все есть, как на фотографии цветущих деревьев…Очень хорошая фотография. Может, я ошибаюсь, ты извини.
— Нет, ты права. Я и сама это чувствую.
Мамины слова меня, конечно же, задели, и я начала работу заново.
Помню, как-то пришла к тете Тане утром. Мне открыла соседка. В квартире пахло воском и ладаном. У меня вздрогнуло сердце. Соседка шепнула, что у больной священник, она исповедается и причащается. Я отпустила соседку и уселась в кресло возле книжного шкафа. За стеклом стояли альбомы по искусству, я видела их тысячу раз, но сегодня вид глянцевых суперобложек меня расстроил — рядом с такими книгами, переполненными репродукциями произведений великих мастеров, особенно чувствуешь себя бездарью, не способной нарисовать простое персиковое дерево. Стыд и позор!
Из-за двери доносились голоса — чуть громче молитва священника, чуть тише — тети Танин. Наконец священник в епитрахили, с дароносицей в красной сумочке из бархата на груди вышел из комнаты крестной и поздоровался со мной.
— Слава Богу, причастилась, — коротко сказал он.
Проводив священника, я поставила чайник на плиту и вошла в комнату тети Тани. Она лежала, улыбчивая и спокойная.
— С причастием, крестная, — сказала я и, поцеловав ее в щеку, присела на край постели. — Ну, как ты?
— Хорошо, Маринушка, — ответила она. — Все в порядке.
Рядом с кроватью, у изголовья больной, на покрытом салфеткой журнальном столике, среди пузырьков и ватных тампонов лежала открытая коробка «Тромала», из которой выкатилось несколько ампул, и тут же, на уголке, примостились молитвослов и сборник стихов Цветаевой. Тетя Таня заметила мой взгляд и сказала:
— Вот, видишь, стихи читаю.
Я смотрела на ампулы с наркотиком и чувствовала, как к горлу подкатывает комок. Тихим голосом, проникновенно, как только она умела, тетя Таня прочла:
Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный…
Я схватила ее за руку.
— Что ты, теть Тань?!
Рука была сухой и горячей.
— Это же Цветаева, глупышка! Ну? Что ты?.. Цветаева…Марина-малина, — она погладила мою руку и отвернулась.
В тот день она ничего не спросила про картину, а я про себя решила закончить ее как можно скорее.
Но — решить это одно, а сделать — другое. По-прежнему у меня ничего толкового не получалось. Я попробовала даже мифологический сюжет, сделала такую почеркушку: бог долголетия у даосов, кажется, его зовут Шоу-син, выходит из плода персика. Это было совсем уж от бессилия и никакого отношения к цветущему персиковому саду не имело.
Картина стала мучить меня. Я пропустила несколько занятий в училище и не встречалась с Толей, ссылаясь на нездоровье. Снова и снова рисовала я персиковый сад. Невысокие деревья, зеленая трава, бело-розовые цветы — и во всем этом не было жизни. Появился в картине путник-монах, идущий с посохом вдоль ручья, но и он казался мне здесь фигурой надуманной. Наконец я поняла, что ничего уже не могу добавить к написанному, и понесла картину тете Тане.
Стоял октябрь. В том году он выдался сухим и солнечным. В маленькой комнате, где лежала тетя Таня, было много света. Крестная всегда отличалась любовью к чистоте и порядку. Даже на зеркале не отыскать было пылинки. И только устоявшийся запах лекарств да коробки «Фентанила» и «Морфина» на столике у изголовья выдавали, что здесь уже давно находится больной человек. Теперь я уже видела, как быстро сдает тетя Таня. Ее трудно было узнать, только глаза были прежними — голубыми озерцами они светились на исхудавшем желтом лице.
Мы поцеловались. Тонкий, едва уловимый аромат «Лайт блю», духов из любимой ею серии «Дольче Габбана», несколько успокоил меня — человек, который следит за собой, умирать не собирается.
— Вот, теть Тань, персиковый сад, — я развернула картину и поставила ее у спинки кровати. — Извини, уж, как сумела.
Она приподнялась на подушках.
— Нет, Мариша, поставь так, чтобы свет из окна падал, — слабым голосом сказала крестная.
Я перенесла картину на туалетный столик и прислонила к большому овальному зеркалу в ореховой раме, перед которым мы так часто сидели с тетей Таней и приводили, говоря ее словами, свои рожицы в порядок. Совсем недавно это было, и в то же время, казалось, в какой-то другой далекой жизни.
— Так видно? — спросила я, испытывая чувство отличника, не выполнившего домашнее задание.
— Хорошо. Так хорошо.
Мы обе замолчали. Я смотрела в окно, за которым стоял уже весь облетевший пирамидальный тополь. Картину мне видеть не хотелось.
— Ты иди, девочка, — сказала тетя Таня. — Иди, а я…поброжу по персиковому саду. Ладно? А потом заглянешь ко мне, и я расскажу тебе о своих впечатлениях. Иди-иди, у тебя много дел…Да, еще скажи, чтобы мама зашла.
У двери я оглянулась. Тетя Таня, не отрываясь, смотрела на мою несчастную мазню. В солнечном луче, протянувшемся через всю комнату, плавали пылинки…
Ничего мне не рассказала тетя Таня, потому что ночью она умерла.
Мы с мамой по очереди читали Псалтирь у ее гроба. А в гробу лежала маленькая исхудавшая женщина в белом платочке и с бумажным венчиком на лбу — совсем не тетя Таня. Были похороны — отпевание в церкви, потом кладбище, желтый бугорок земли и цветы у подножия деревянного креста. Пошел дождь, и мы все выпачкались в глине.
Почему я не плакала? Мама плакала, а я не уронила ни слезинки. Почему? Не знаю. Что-то будто замерло во мне, и я стала бесчувственной, как столб.
А потом мне прочли ее завещание. Тетя Таня все оставила мне: квартиру, свои сбережения, даже дом где-то в глухой деревне, куда она и не ездила никогда.
Вот такая история.
* * *
Максим взял мою руку, погладил пальцы.
— А картина? — спросил он.
— Картина? Висит на стене в моей комнате, рядом с портретом тети Тани, который я писала на третьем курсе пастелью.
— Я не помню, — сказал Максим, морща лоб.
— Это в квартире моей мамы, в другом городе… Нам, пожалуй, пора?
Максим посмотрел на часы и кивнул. Мы встали и пошли к выходу.
— Дохаждате още, ние се радваме на гости! — сказал на прощание белозубый болгарин-бармен, и я без перевода поняла, что он приглашает нас заходить еще.
Я помахала ему рукой.
Солнце клонилось к закату. Там, в Нестинарах, наверное, уже полыхает костер, на углях которого чуть позже, когда стемнеет, начнут танцевать свой знаменитый танец босые темнокожие болгары, похожие на цыган. А потом все посетители ресторана возьмутся за руки и пойдут вокруг затухающего костра под звездным небом, и оркестр ударит народную «Вай, дудула».
На душе после рассказа Максиму было спокойно, как будто после исповеди — такое чувство, словно солнце светит сквозь дождевые струи. Грибной дождик. Давно я не была на исповеди, вернусь из Болгарии — обязательно схожу.
Я взяла Максима под руку и оглянулась на цветущие персиковые сады на васильковом фоне моря. Я обязательно нарисую их теперь. Для тети Тани.

Рисунки Марии Заикиной