Писать об «Одном дне Ивана Денисовича» трудно — потому что написано об этой повести уже столько всего! Она даже в школьную программу по литературе входит, а значит, обсуждена направо и налево, вдоль и поперек. Но я попробую, вынеся за скобки связанную с ней литературную критику и публицистику, сказать о том, что увидел, когда недавно перечитал.
А это вовсе не тот обличительный пафос, который был основной авторской задачей. Там возникают темы куда более сложные и по нынешним временам очень даже актуальные.
О чем повесть?
Но прежде чем перейти напрямую к этим глубоким смыслам, надо все же напомнить, о чем повесть.
Итак, «Один день Ивана Денисовича» говорит ровно о том же, что заявлено в названии. Это подробное, на сотню с лишним книжных страниц описание одного дня ее героя — Ивана Денисовича Шухова, заключенного в лагере. Время действия указано точно — 1950 год, место — крайне приблизительно. Суровая зима много где может быть. Сам автор позднее говорил, что идея рассказать о лагерной жизни посредством описания одного дня заключенного родилась у него в 1950 году в Экибастузе (Казахстан), где он отбывал срок в лагере.
Итак, сорокалетний Иван Денисович Шухов на момент действия уже более восьми лет находится в заключении. Он осужден в 1941 году, беда его в том, что он, красноармеец, при отступлении попал к немцам в плен. Сумел оттуда бежать, добрался до наших, но ему слепили дело как шпиону и предателю. Дали десятку, сидеть ему осталось два года.
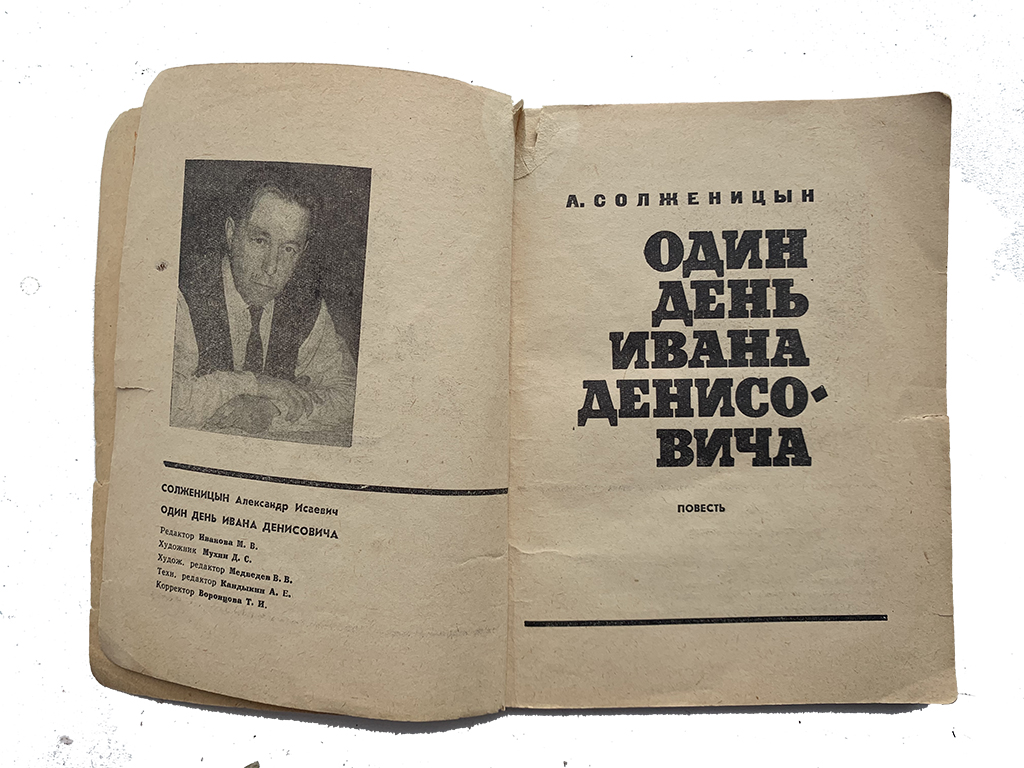
Иван Денисович — простой русский мужик из глухой северной деревни. Женат, отец троих детей. Совершенно необразованный (считает, например, что луна каждый месяц заново рождается из ничего, а старая распадается на звезды). Но он умен практическим умом, то есть сметлив. У него золотые руки, он способен в совершенстве освоить любое ремесло. Он прекрасно умеет приспосабливаться к обстоятельствам. Социальное зло воспринимает беззлобно, как погоду. То есть как нечто, данное нам изначально и чего мы никоим образом не можем изменить.
Религиозен ли он? И да, и нет. В спорах с соседом по нарам, баптистом Алешкой, Иван Денисович говорит, что в Бога верит, а в рай и ад — нет. К священникам относится негативно, потому что ему не повезло с приходским батюшкой в их деревне. То есть тут у Солженицына никакой идеализации, Иван Денисович — продукт своей эпохи.
Повесть представляет собой подробнейшее описание всего, что происходит с Шуховым за день, от подъема до отбоя. Подается все изнутри героя, то есть его глазами, его языком. Отсюда в тексте многочисленные диалектизмы вроде «кесь» (то есть «кажется», «вроде бы») и просторечия.
Показан самый типовой лагерный день. Без экстрима. Ни расстрелов, ни избиений, ни пыток. В «Колымских рассказах» Варлама Шаламова лагерь предстает куда более страшным местом. А тут — ну просто голод, холод, бездушное отношение охраны. Обыденность. На мой взгляд, это лишь нагоняет жути. Если таков обычный и, как в финале констатирует сам герой, даже удачный день, то каковы необычные?
Главное, что я увидел в повести — это «красные линии» Ивана Денисовича
Поясню: о чем в повести сказано и что можно в ней увидеть — это вещи разные. Как писал Сергей Довлатов, всякое произведение состоит из того, что автор хотел сказать и сказал, из того, что ему не удалось сказать, и из того, что он не собирался говорить, но все-таки сказал. То есть обсуждать можно не только авторский посыл, но и читательское прочтение.
Итак, что же я вижу в «Одном дне Ивана Денисовича», глядя из 2022 года? Обличительный пафос, конечно, есть — и для своего времени он давал эффект разорвавшейся бомбы, но сейчас, спустя 60 лет, после всего опубликованного о сталинской эпохе, это уже совсем не так звучит. Впрочем (замечу в скобках), для современных подростков-старшеклассников повесть Солженицына может оказаться первым звеном в цепи чудных открытий. Об эпохе репрессий многие из них (причем дети вполне развитые, культурные) знают примерно... ничего.
А действительно важная (во всяком случае, для меня) тема — это границы приспособленчества. Вот есть человек — и есть тяжелые обстоятельства, в которых он оказался. По своей ли воле, не по своей — неважно. Есть ты, со своими ценностями, взглядами, привычками — и есть чудовищно изменившаяся социальная реальность, в которой тебе теперь приходится как-то существовать. Как-то в нее вписываться, приспосабливаться. Или нет.
Если встать в позу и, на манер пушкинского Евгения из «Медного всадника», сказать злу «Ужо тебе» — новая реальность тебя раздавит и даже не заметит. Что ж, такая смерть — тоже выбор, для некоторых единственно возможный. Эту смерть можно сравнить с мученической — если есть то, за что ты готов принять мучения, те принципы, которыми ты никогда не сможешь поступиться.
Но как быть человеку, когда безжалостная система вроде бы не посягает на эти принципы, не заставляет отречься от святынь? Если она, эта система, требует от тебя подчинения в главном для себя и безразлична к тому, что для нее — мелкие частности, а для тебя — смысл жизни?

Вот Иван Денисович. Чего хочет от него система, в которую он угодил? Тяжелого, по сути рабского труда на какой-то из многочисленных «строек социализма». Внутренний мир Ивана Денисовича ей безразличен, в голову к нему она не лезет. Она, система, вообще не оперирует такими категориями, как «внутренний мир», для нее люди — взаимозаменяемые винтики.
Но это же проблема не только Ивана Денисовича и не только его современников! В той или иной форме приспособление к бездушной системе происходит повсюду и в любые времена. Просто масштабы разные и в систему не все попадают. В спокойные мирные времена в спокойных мирных странах большинство людей живут своей спокойной мирной жизнью и о системе не подозревают. Но если им не повезло, если их жизнь меняется к худшему, меняется неотвратимо — то и перед ними встает выбор. Простой и жестокий: умереть или приспособиться. Причем речь не только о политике, о взаимоотношении личности с государственной властью. Жизнь может измениться к худшему и без всякой тюрьмы. Болезнь, обнищание, утрата близких, смена места работы, переезд, стихийные бедствия... много всего случается. И ко всему этому приходится приспосабливаться.
Но ведь приспособиться — это же даром не пройдет. Такое приспособление разъедает душу, пробуждает в ней все худшее и блокирует (полностью или частично) все лучшее. Вопрос: это необратимый процесс? Или возможно сохранить себя хотя бы в главном? И если да, то где проходят красные линии, за которые нельзя переступать?
Иван Денисович — хороший пример такого «пассивного сопротивления». Он не борец с советской властью, он не хочет геройски погибнуть от мороза в штрафном изоляторе или от пуль конвоя. Он хочет вернуться к своей семье, он любит жизнь, даже такую, лагерную. И потому приспосабливается к системе. Знает, как спрятать хлебную пайку, чтобы не украли. Знает, как подработать в среде других заключенных (кому-то сшить тапочки, кому-то занять очередь на получение посылок). Умеет ладить с людьми.
Но у него есть «красные линии». Он не будет вылизывать чужие миски, не будет «шакалить», не будет доносить. Он за восемь лет лагерей не опустился, не сломался. Согнулся — да, но не сломался. Он не утратил способности сострадать людям, он не принял душой известный принцип криминального мира «умри ты сегодня, а я завтра». У него сохранилось чувство собственного достоинства.
Рабская психология?
Мы говорим о повести Солженицына — и не можем игнорировать контекст, не столько политический даже, сколько идейный. Солженицын — глубокий мыслитель, о нем не умолкают споры и вряд ли когда-нибудь умолкнут. Но оборотная сторона этого — фигура Солженицына-мыслителя, Солженицына-идеолога заслоняет от нас Солженицына-писателя. А как писателя его волновали вещи гораздо более экзистенциальные (а точнее, духовные), нежели конкретно СССР, ГУЛАГ, марксизм-ленинизм и так далее. Писатель, с какой бы фактурой он ни работал, каких бы взглядов ни придерживался, всегда в конечном счете говорит о человеческой душе, о том общем, что присуще всем, — в любые времена, в любых странах.
Вот и на «Один день Ивана Денисовича» я смотрю так же. Повесть эта — не только и даже не столько обличение ужасов советской власти. Мне важнее, что она о том, как приспосабливается человек к тяжелым обстоятельствам. В случае Ивана Денисовича тяжелые обстоятельства — это сталинские лагеря, но Иван Денисович из повести — образ человека вообще. И лагерь из повести — тоже образ тяжелых обстоятельств вообще. У Достоевского в «Преступлении и наказании» Раскольников думает: «Ко всему-то подлец-человек привыкает!» А Солженицын ставит вопрос иначе: если ко всему привыкает, то всегда ли становится подлецом? И категорически отвечает: нет. Иван Денисович не подлец. Именно потому, что для него есть внутренние барьеры, те самые «красные линии».
И вот тут мы выходим на очень актуальную ныне тему. В контекста споров о коллективной вине часто звучат обвинения в рабской психологии, причем не конкретных людей даже, а всего российского народа. Дескать, века крепостничества сформировали некий паттерн поведения, усваиваемый с молоком матери. Не давая сейчас моральной оценки таким заявлениям, замечу, что здесь смешиваются совершенно разные вещи. А еще точнее, здесь само понятие «рабской психологии» размывается столь широко, что его можно подверстать к чему угодно.
Вот Иван Денисович. У него рабская психология или не рабская? А это смотря какое использовать определение. Если считать рабами всех, кто не встал грудью против системы, то да, конечно, тогда Иван Денисович идеальный раб. Он же делает именно то, чего от раба требуется: выполняет порученную работу, причем отлично выполняет (потому что не приучен халтурить). Он не бунтует, не впадает в депрессию (которая понизила бы его ценность как работника). Но тогда рабы — большинство населения во всех странах мира. Героических борцов, способных жизнь свою посвятить героической борьбе, всюду считанные проценты. И опять же — речь не только о борьбе с властью, но и о борьбе в широком смысле слова. Со своим окружением, со своими невыносимыми обстоятельствами, со своими страстями, наконец.
Но можно определять рабскую психологию иначе — если исходить не из внешних реалий, а из внутренних мотиваций. И тогда раб — это не каждый, кто предпочел смириться с обстоятельствами, а только тот, кто при этом качественно изменился внутренне. Кто перестал различать добро и зло, кто стал стопроцентным эгоистом, кто попал в отношения созависимости с теми, кто им помыкает. О таких писал Некрасов: «Люди холопского звания — сущие псы иногда. Чем тяжелей наказания, тем им милей господа». И девиз «умри ты сегодня, а я завтра» — это как раз про них. Такие герои показаны и в повести Солженицына, но это вовсе не Иван Денисович. А, например, его однобригадник Фетюков, бывший большой начальник, а ныне — «шакал», готовый унижаться за любой окурочек.
Можно уточнить определение: рабская психология — она у того, кто хочет быть рабом. Потому что ему так легче: не надо самостоятельно принимать решения и рисковать при этом (вспомним раба из евангельской притчи, который убоялся торговых рисков и потому зарыл полученный талант в земле), не надо думать (а думать порой бывает весьма некомфортно), не надо отвечать за других, не надо соблюдать общечеловеческие моральные нормы, поскольку плевать, что о тебе подумают люди, главное — твой комфорт, а комфорт у тебя будет, если сумеешь угодить хозяину.

Иван Денисович (и не только лично он, но и то множество людей, которых Солженицын встречал в лагерях и отразил в его фигуре) такому определению не соответствует ничуть. Он не борец с режимом, но и не фанат режима, у него есть иерархия ценностей, он способен сохранить свое человеческое достоинство, у него верно работает внутренний нравственный компас. Да, внешне, формально — он, как и миллионы других заключенных, находится на положении раба. Но внутренне он свободный человек. Его жизнь, даже в таких тяжелых условиях, в которые он поставлен, ежедневно, ежеминутно ставит ему ситуации этического выбора, и выбирает он, может, не всегда верно, но всегда — не из шкурных соображений, не в ущерб другим.
А где гарантии?
Однако вопрос остается: а есть ли гарантии, что Иван Денисович все выдержит и далее — и оставшиеся ему два года срока, и, вполне возможно, новую десятку (чего он постоянно опасается, размышляя о близком уже освобождении)? Система проглотила Ивана Денисовича, но за восемь лет не сумела переварить. Может быть, потом все-таки сумеет? И вообще: возможна ли полная и окончательная победа (хотя бы духовная) над чудовищными обстоятельствами, в которые попал человек?
Есть ли у Ивана Денисовича (да и у любого из нас) некий предел прочности, по достижении которого он сломается и станет рабом жестоких обстоятельств не просто по факту, но по сути, по своей новой внутренней сути? Или ресурсы сопротивления в нас на самом деле бесконечны (как можно подумать, глядя на эпизодического героя повести, баптиста Алешку, который спокойно, без всякой экзальтации переносит тяготы заключения, потому что верит в невидимое присутствие рядом с ним Христа)?
Но уже не из повести, а из жизни, из огромного количества материалов о новомучениках мы знаем, что ломались и глубоко верующие люди. Потому что вера тоже ведь не дает гарантий, она дает возможность. И этой возможностью нельзя распорядиться раз и навсегда. До самой смерти все равно приходится делать выбор, свобода воли никогда в нас не отключается, и потому всегда есть риск ошибиться, риск изменить себе и Богу, риск расчеловечиться.
* * *
Ответа на вопрос о гарантиях у меня нет. Думаю, вряд ли этот ответ был и у Солженицына. Но вот именно потому его повесть не агитка, а большая литература. Которая, перефразируя почти забытого сейчас писателя Геннадия Гора, тем и отличается от литературы мелкой, дающей простые ответы на незаданные вопросы, что ставит такие вопросы, на которые нет легких ответов.








