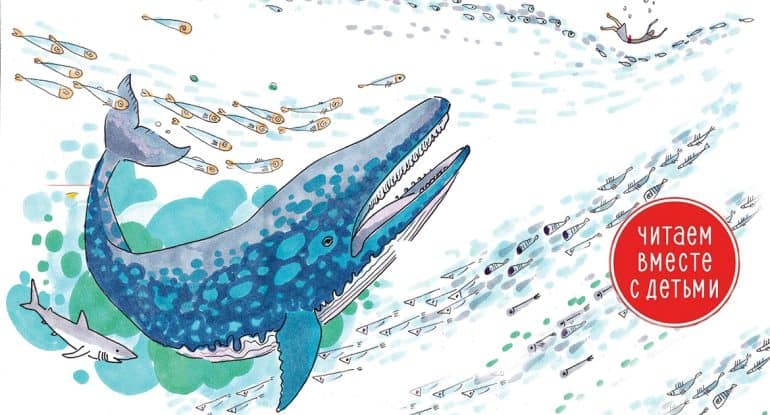Они сидели на заднем сиденье автобуса. Он смотрел в окно, отвернувшись от всех.
— Как сговорились все, подходят ко мне и хвалятся: мне мой это подарил! А мне мой то! А мне мой гляди что... Одна я молчу и улыбаюсь, как дура. А что мне им сказать, что ты мне даже коробки конфет купить не смог? — говорила она. — Знаешь как обидно было, ведь всем, всем мужья что-то подарили, одной мне, как будто я хуже всех... Скажи, я что, хуже всех, я что такая, что и конфетки не заслужила, скажи?..
Автобус шел долго, пробираясь по пустынным пригородным улочкам. В тусклом дребезжащем салоне оставалось всего несколько человек. Я встал у задней двери приготовившись выйти. Она больше не зудела, она спала у него на плече, обхватив его за руку. Он все так же смотрел в окно, только огромная его ладонь осторожно гладила ее по голове поверх вязаной серой шапочки.
* * *
Утром в вагоне только и было разговоров и слухов о том, что ночью чудом удалось избежать аварии. Он вышел покурить в тамбур и вдруг представил себе, что могло случиться с ним и его семьей этой ночью, в мороз, вдалеке от города... и отогнал от себя эти мысли. Глубоко затянувшись, он вздохнул и улыбнулся, глядя на сверкающие снега: «Слава Богу».
И тут он вспомнил, что вчера днем он так же стоял здесь и видел в окне какую-то станцию, людей, ожидающих электрички и среди них чью-то фигуру, сгорбленную от холода. Бродяга поди или алкаш, — подумал он тогда. А человек повернулся к их поезду, и (он это ясно видел) перекрестил несколько раз вагоны, обдававшие его снежной пылью... Он еще смотрел на этого чудика и усмехался про себя, бывает же... Сейчас же все эти события как то естественно связались между собой. «Слава Богу», — сказал он снова. И еще раз неожиданно громко: «Слава Богу!»
* * *
Сидит в электричке человек лет четырех, смотрит в окно и чего-то там напевает. Еще он болтает ногами, досаждая этим мамочке, чем-то сильно расстроенной, сидящей напротив.
— Ты прекратишь или нет?
Он прекращает ненадолго, но он же поет, но поезд же идет, как же можно не болтать!
— Смотри, опять испачкал, идиот!
«Идиот" улыбается виновато, потом заискивающе, но на мамочку это не действует. Через некоторое время опять:
— Дрянь бестолковая!
..?!! Но она же его мама, и он поджимает губы и смотрит на меня. А чем я могу помочь ему, я лишь сочувствую ему глазами и вдруг встречаю взгляд мудрейшего человека... Он опускает голову, слушая оскорбления, и вздыхает легко и мирно.
Насколько же они умнее нас!
* * *
Мой знакомый, Николай Михайлович рассказывал: «Ехал вчера в электричке с "новым Ноздревым". Такой же беспокойный, шумный - весь в бутылках пива. Вот, думаю, повезло. Осушает он одну за одной и конечно вещает про то, как мы сами виноваты в том, что не умеем жить "как люди", в своем стиле, в общем. Ну и конечно нашел он во мне своего благодарного слушателя. Поднимаюсь выходить, а ему жалко такого слушателя терять, стал он жалеть об этом, а я и говорю: "Если Вы не возражаете, разрешите я подберу бутылочки ваши пустые?" Ведь три штуки, это же полбуханки хлеба! На дороге не валяются. Отдал он без звука, только сморщился: "Так вот тебе чего надо было...»
— Расстроил, понимаешь, человека, — смеется Николай Михайлович, потерявший в этом году жену и сына, сам больной, филолог, специалист по славянской литературе.
* * *
Как легко поругаться с женой из-за пустяка — попробуй потом примириться.
Мы бредем лесом с прогулки, впереди — притихший ребенок. Ранняя весна. В оврагах еще довольно снега. Поднимаемся на взгорок. И тут нас встречает одинокий куст орешника, унизанный весь... баранками. Настоящими сушками с маком, висящими на тонких ветках. Мы стоим, не веря своим глазам. Место безлюдное. На сучке висит записка: «Угощайтесь, люди добрые». Детский почерк, бумажка в клетку. Мы начинаем смеяться. Мы начинаем прыгать вокруг куста. Мы не находим слов. Кто тебя придумал, чудо? Помирившее нас, подарившее вдруг столько радости и тепла! Мы съели тогда с великим удовольствием лишь несколько сушек, чтобы и другие могли разделить с нами этот безымянный, маленький дар любви.
* * *
В нашем поселке много собак, оставленных дачниками после лета. Они сбиваются в голодные стаи и бегают в поисках пищи. Но, оказывается, что не все. На протяжении восьми месяцев я видел собаку, которая выходила на дорогу напротив заколоченной дачи и ждала день и ночь своих хозяев. Едва слышались чьи-то шаги, появлялась ее умная породистая морда с такой надеждой в глазах, что скоро проходить мимо нее стало невыносимо. Несколько раз один сердобольный парень пытался забрать ее к себе, и всякий раз она сбегала от него и продолжала нести свое неусыпное дежурство с ошейником и волочившимся поводком... В любую погоду, встречая каждого проходящего. Так прошла и зима, и весна. А летом вернулись хозяева, и надо было видеть собачье счастье, когда она шла по поселку с хозяином, который обращался с ней как с ненавистной обузой, крича и пиная ее без всякого повода. Кто-нибудь скажет, что жалко собаку, а мне стало жалко хозяина, ему бы ее собачье сердце.
Этой осенью собаки что-то не видно, слышал будто ее убили.
* * *
Они столкнулись у булочной, случайно. Застыли и смотрели друг на друга. Пятнадцать лет были мужем и женой и пять лет как не виделись.
А ведь хорошо нам было в общем-то, правда? — Правда... Он опаздывал на поезд, у нее кончался перерыв, они стояли, сомкнувшись лбами. Никто не хотел уходить, и поэтому не уходил. Ушел его поезд и кончился ее перерыв, а они все стояли, уткнувшись лбами, потому что было хорошо. Не говорили. Не плакали. И опять разошлись, боясь обернуться и посмотреть вслед. Я ничего не понимаю в этой жизни.
* * *
В те дни он не отходил от отца. Последние месяц-полтора, всюду с ним как хвостик. Раньше-то: с утра, да на улицу и в горы на весь день с ребятней, а тут ни на шаг. И отец брал его с собой, даже на покос бывало, полусонного. Завернет от прохлады и на телегу, тот проснется испуганно, а кругом уж все поет: и птицы, и отец вполголоса, и коса... Или вцепится в тяжелую отцовскую руку и не отпускает ее, и ходит с ним. Отец остановится, разговорится со знакомым, зайдет в контору или на базар соберется, а ему ничего не надо, только быть рядом с отцом, только б не потерять. И откуда он мог догадываться, что не увидит больше отца, что никогда уже больше не держаться ему за его большую теплую руку? Так и вышло: проводили на войну и погиб.
Я часто вижу этого пацаненка, чумазого от пыли и слез, глядящего на дорогу и уже все знающего. Шесть лет ему было. Это был мой отец.
* * *
— Странная ты какая-то.
— Я деньги потеряла.
— А чего улыбаешься?
— Понимаешь, я их нашла потом...
— Так нашла или потеряла?
— Я сама не знаю. Их женщина подобрала с ребенком. Неполноценным. В коляске такой...
— Ну и что?
— Подошла, а она ко мне: вот, говорит, чудо-то. Богородица послала нам! Дурочка. Гляжу, а бумажки то мои: триста рублей пополам сложенные, Господи... Не смогла я у нее забрать...
— Да может, не твои "бумажки"?
— Мои, я чувствую, мои...
— А чего плачешь-то?
— Не знаю...
— Ну ты даешь, мать.
* * *
Не забуду я этот Таганрог. В ожидании автобуса на Мариуполь посадил я жену и детей в скверике и пошел за мороженым. Попал я, благодушный, прямиком в цыганские сети. Окружили меня «ромалы», раскрутили как конфетку, и не понял как сам же отдал им половину тех денег, что накопили на весь отпуск! Жена пыталась прорваться ко мне, кричала, а я как оглушенный. Очнулся — небо померкло: ужас, растерянность, стыд, а потом поднялась во мне ненависть и такая злость полоснула, что... И вот дети. Одной — шесть, другой — два годика. Все замечательно было, ждали мороженое, а тут мама плачет, папа страшный... Как они смотрели тогда на меня! Вдруг вспомнил что я — папа. Папа, гори все огнем! Я заставил себя улыбнуться и подмигнул им как сумел и даже что-то сказал «мудрое», вроде: «Бывает и похуже, ребята».
Тогда я смог вернуть им семью, вернуть им беззаботное лето и мороженое... А когда они выросли — не смог. Тогда оказывается было проще.
* * *
Бывают же на свете собаки. И не просто собаки, а собачи...
По сей день для меня загадка: чем мы приглянулись друг другу? Она - из стаи собак-побирушек, белая, с густой овечьей шерстью, словом, Белянка. Поначалу я не отмечал кого-либо из них, и если была возможность, оделял их сухариками поровну. Как-то раз из всей этой братии она одна привстала на задних лапах и потянулась не к лакомству (которого у меня не было в тот раз), а ко мне. Я погладил ее... И с тех пор она стала моей Белянкой. Едва завидев меня, несется она навстречу, и не описать, как она сперва забежав вперед и опустив низко морду, начинает вилять своим тельцем, взглядывая на манер деревенской кокетки, но потом, не выдержав, все же встает на лапы и уже ластится от души. Впрочем, и я радуюсь не меньше.
Со временем я убедился, что ею движет именно приязнь ко мне, а не чувство голода. Метров двадцать-тридцать мы идем вместе, затем она вежливо отстает, и как я благодарен ей за это: у меня ведь нет возможности взять ее к себе в дом. Иной раз иду намного позднее обычного, все равно — и встретит меня, и проводит. Такая собача. Позавчера вдруг не ткнулась ко мне, а отбежала опасливо. Вижу, на голове у нее запеклась кровь. Весь день переживал и думал о том, что вот тот человек в ее глазах был таким же как я. И ударил. Сегодня, слава Богу, наши отношения восстановлены! Должна быть хотя бы одна душа на свете, которая ждет тебя каждый день. (И почему не бывает у нас любви без тревоги?)
* * *
С утра шел снег. Невероятно белый и плавный. Как давно она, оказывается, ждала этого, как подставила ему измученное тело свое... Мы все забыли, что она - живая, но сейчас нельзя не слышать протяжный выдох ее: «Уйдите, люди! Уберите свои дурацкие машины, самолеты и поезда... Побудьте где-нибудь, хоть пару часов, хотя бы полчаса дайте., сил нету-у!»
Тихо и чисто, как в больничной палате. Я вышел за хлебом и сразу понял, что мы тут лишние. Оказывается бывают минуты, когда человек не хозяин, не царь, не бог. Ему лучше сидеть дома. Аминь.
* **
— Священнику подали в алтаре записку: «Говорят, что ты истинный пастырь Божий, выйди, расскажи тогда про свою славную молодость или забыл? Земляки". Он выходит после литургии и рассказывает о себе такое, что хоть стой, хоть падай. И что? А то, что полюбил его народ после того больше прежнего и прославил его тем, что стекаются к нему толпы уверовавших и просят, чтобы крестил их. Красиво?
— Красиво.
— Веришь?
— Нет.
— Почему?
— Уж больно красиво.
— Да, в этом все дело. Нам бы, темненьким, что-нибудь побледнев, посерее. Вот если бы батюшка не отвечал, вот тогда бы мы поверили и не осудили его, а наоборот - оправдали, мы ведь и сами такие - вот где наша правда. А правда Божия красива до безумия, проста до безумия для нас, чтобы нам поверить в нее, а ведь это - правда, это было на самом деле, в наши дни. И ведь как просто: пошел и рассказал! И какая красота: уверовали и прославили! Веришь?
— Нет.
* * *
Иду домой, слышу за спиной разговор подростков.
— А ты в кино хотел бы сняться?
— Ну если только в эпизоде. Так, чтоб выскочил, зарезал и убежал! И чтоб меня не узнали.
— А как же слава, известность?
— Ну это не в моей натуре.
* * *
Напротив меня в электричке две девушки, симпатичные, особенно рыженькая. Обсуждают своих знакомых. Вижу, сзади к ним подкрадывается толстый белобрысый парень с огромным букетом и коробкой в руке. Ему очень весело, он подмигивает мне и прикладывает палец к губам. Я отворачиваюсь и смотрю в окно. Он явно готовит «сюрприз», я даже знаю кому — рыженькой, он уже над ней... Она говорит подруге:
- А Пашка вообще не мужик, лизун противный, обращается со мной как с маленькой девочкой и каждый раз с каким-нибудь подарочком лезет, представляешь?..
Это про него. Он стоит багровый, с глазами, полными слез. Я не знаю куда деваться. Через секунду парень вылетает из вагона, как раз на его «счастье», остановка. Поезд трогается, рыженькая восклицает:
— Ой, Пашка!
— Где? Это разве он?
— Ты думаешь, не он?
— Он, — говорю я.
— А Вы откуда знаете?
— Знаю...
* * *
День заканчивался как обычно: приятель подвез его до метро и они весело расстались, потом он доехал на метро до вокзала, потом ехал в электричке, сидя в углу у окна, потом вышел в "Красково" и долго шел по зыбучему, жирному снегу в свое пустое жилище и как всегда он не думал о ней, он не думал ни о чем таком и не вспоминал и совсем не жалел, он устал, предстояло готовить ужин или хотя бы чай, но и это прошло как-то незаметно. Быстрая сытость тянула в постель, но предстояло еще помолиться и он заставил себя встать пред лампадкой. Он вздохнул и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Отче наш...» И тут услышал в себе потрясающе тихий Голос: «Что сынок?..»Больше он не смог произнести ни слова молитвы. Он стоял и плакал и не мог остановиться.
Утром он проснулся и вспомнил об этом. И не поверил: разве может быть Бог так рядом, так по-отцовски близко, к нему?! Он поднялся, умылся, наскоро вытерся, предстояла молитва. Он подошел и встал пред лампадкой...
Фото Санный путь, парк Сокольники, 1969