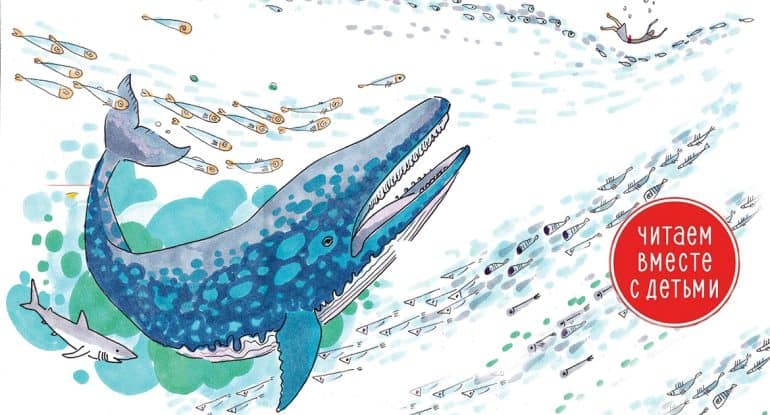1.
— Алло.
— Привет.
Несколько секунд паузы.
— Привет.
— Только, пожалуйста, не бросай трубку...
— Зачем же. Я очень внимательно тебя слушаю.
— Знаешь, мне нужно увидеть тебя.
— Ты уверен, что это на самом деле нужно?
— Я серьезно болен, и... знаешь, похоже, мне уже недолго...
(Пауза.) Ты ничего оригинальнее не придумал, чтобы заставить меня опять наступить на те же грабли?
— Я предполагал, что ты не поверишь мне. Я боялся тебе звонить. Я уже полгода в мыслях разговариваю с тобой. А сейчас понял, что могу просто не успеть.
На том конце провода помолчали, обдумывая, может быть, действительно ли собеседнику физически тяжело разговаривать, как это заметно по голосу, или же это бессовестное актерское мастерство. Потом — неуверенным тоном:
— Ну и где и когда ты предлагаешь встретиться?
— Я уже никуда не выхожу из квартиры. Я с кровати почти не встаю. Так что — либо у меня, либо на кладбище.
— Ты понимаешь, что если ты... прикалываешься, ты понимаешь...(в голосе засквозило отчаяние) насколько это идиотский прикол?
— Родная, прости меня... Я столько тебе лгал, что теперь ты боишься мне поверить. Прости, я, как всегда, не с того начал. На самом деле мне только одно тебе нужно сказать...
Он скажет ей это — главное, единственное. А для нее теперь важным будет все, что она успеет от него услышать. За ближайшие дни, ставшие для нее безмерными, она переживет вес то, что в эти месяцы пережил он.
2.

Стены и потолок больничного коридора безжалостно давили на сознание, выкачивая из пойманного ими все силы, так что плетьми повисали руки и ноги. В первый раз это было не так ощутимо, потому что пребывание в онкологическом диспансере было почти что недоразумением — нужно было всего лишь срезать с шеи немного мешавшую жить пакость, которая вовсе не была злокачественной, почти никакой опасности из себя не представляла, если только не считать крайне маловероятного в таких случаях процесса, который эти деловитые люди в белых халатах называют малигнизацией — это когда клетки доброкачественного образования мутируют, превращаясь в то самое, название чего совсем не хотелось произносить. Операция прошла вполне благополучно, под местным наркозом и без особенно неприятных эмоций. Начало работы скальпеля можно было угадать только по побежавшей по шее теплой струйке. Неприятные физические ощущения были лишь когда накладывали швы: кожа сильно оттягивалась, удержать голову на растянутой по операционному столу белой ткани было невозможно, и голова беспомощно повисала, следуя за уверенными руками хирурга. Потом было хуже — потом в шею постепенно ввинчивалась боль, а организму отходняк был как после студенческой вечеринки. Но еще было совсем не страшно, потому что атмосфера больницы еще не впилась в него, она только бродила вокруг и приглядывалась, прицеливалась... Потом он обо всем этом почти забыл. Шов о себе не напоминал, благо его не видно даже в зеркале, и долго все было в порядке. Может быть, даже слишком долго. Только вот та недобрая больничная тоска не забыла его, ждала, чтобы взять реванш за его жизнерадостную независимость при их первой встрече. И, хотя он этого еще не понял, время реванша наступило.
— А тебе подождать придется. Там еще двое не-начатые сидят, — хриплым голосом сказала ему санитарка — дама неопределенного возраста, но вполне определенной социальной принадлежности. Сказала — и вызвала лифт. «Все логично, — подумал он, — Харон и не должен быть слишком обаятельным. Но однако же как у них тут вес просто: те, кто готовится лечь на стол, оказывается, неначатые»... И вот, пока он был неначатым, больница вплотную приступила к нему. Врезалась в сознание чужим запахом, навязчивым клетчатым узором линолеума под казенными тапочками на босых ногах, холодным мерцанием дневных ламп, безвыходной замкнутостью коридора оперблока. Он ощутил себя ребенком, оторванным от мамы нехорошими разбойниками — а вдруг это были разбойники не из сказки, которая всегда хорошо кончается, а из детского недоброго сна, из которого только один выход -ждать, когда проснешься в тишину и темноту своей спальни. Тревоги и страхи копошились в нем еще и из-за того, что это попадание в больницу было не совсем понятным. Вроде бы что-то там снова начало прорастать из-под шва, вроде бы посмотрели и сказали, что на этот раз надо бы почистить поглубже. Зачем-то пообещали общий наркоз, собрались каким-то там образом более серьезно обследовать — как оно там и что... И вот совсем уже детская беспомощность сжала ему что-то под ложечкой, когда его, оставшегося в одних трусах, обхватил со всех сторон яркий свет операционной. Действие наркоза сначала отключило способность как-либо двигаться, потом уплыло то, что было перед глазами, а дальше, перед тем, как сознание отключилось вместе со слухом, в него успели проскользнуть голоса: «Диагноз там у него какой?.. Гистология показала меланому, но Сергей Петрович говорит — надо будет повторить... Ага, значит, она у него все-таки малигнизировалась... Но если метастазов нет, может быть, есть смысл...». Дальше он уже перестал быть неначатым.
Когда он пришел в себя после операции, его больше всего интересовало, действительно ли к нему относилось то, что он успел услышать, теряя сознание. У лечащего врача спрашивать было бесполезно — тот с деловитым лицом вешал на уши лапшу о том, до какой степени все расчудесно. Он так и жил в отчаянной надежде на то, что все эти мудреные слова, значение которых он, к сожалению, уже слишком хорошо знал, ему не более чем приснились, до тех пор, пока ему не удалось просочиться в ординаторскую (врачи занимались кто чем, кто где) и рассмотреть свою историю болезни.
Есть в арсенале наших чувств некое ощущение (может быть, даже состояние?), которое трудно обозначить одним словом. Ужас, тревога, обреченность — понятия близкие, но ни одно из них не отражает адекватно то, о чем идет речь. Тем не менее оно- целостное, четкое и однозначное. В детстве задеваешь любимую мамину вазу, ничего страшного, сейчас мы все поправим, но вот она летит вниз, и ты уже точно не успеваешь ее поймать... Захватывает дыхание на беззвучном внутреннем крике о том, что так не может быть, так не должно быть, но вот уже никуда не денешься от того, что все именно вот так... Проходит сколько-то лет, ты давно забыл о падающей вазе, поняв, что ваза на самом деле совершено несерьезная вещь, но таким же точно беззвучным криком ты провожаешь с соседней платформы набирающую скорость последнюю в этот день электричку — ее, железную, совсем не тревожит, что ты, подросток, одинокий и беспомощный, на ночь в чужом городе... Еще через пару лет ректор с искаженным от раздражения лицом подписывает на твоих глазах приказ о твоем отчислении. Ну и... ладно с ним, с институтом, это не самое главное в жизни, есть у тебя и кое-что поважнее... Но и в то — важное — однажды бесцеремонно вошло ощущение слишком поздно, только вот об этом лучше не вспоминать...

И вот теперь с небывалой еще конкретностью оно обрушилось на него и сковало сердце и мозг, и все тело. Он как-то дошел до палаты и рухнул лицом в больничную подушку. Слез не было. Было просто темно. Даже почти не было мыслей — какие-то лихорадочные обрывки мелькали в потемневшем сознании.
Когда-то наступает, наконец, пора приходить в себя. И это «пора» совпало с очередным приходом милых и ласковых родственников. Началась увлекательная игра в прятки, от которой совершенно непонятно, кому было легче. Они старались спрятать мучительные мысли о его болезни за жизнерадостными улыбками, а он, отвечая им наполеоновскими планами на жизнь, пытался понять, пытался сосканировать с их бодрых взглядов: знают они или нет?
И, скорее интуицией, чем «сканером», определив, что знают, решил принять правила игры: «Что ж, значит, будем вести светские беседы до тех пор, пока они плавно не перейдут в отходную», вслух благодаря за поддержку и бананы в разноцветном пакете. После того, как они ушли, окончательно сдался больнице, и она делала с ним, что хотела.
3.
Когда снится что-нибудь уютное, доброе, близкое, как своя рубашка, и вот, несмотря ни на что, наступает время утреннего укола, и медсестра, как перед строем на поверке, выкрикивает твою фамилию, реальность больницы, равнодушно ожидавшая тебя у выхода из твоих зыбких кайфов, распластывает так, что уже не помогают остатки сна, в которые пытаешься зарыться после укола с тайной надеждой, что наяву за это время что-нибудь изменится. Это детское желание так и остаться в снах, когда явь безрадостна — оно так естественно на казенном матраце, но что делать, когда оно верным спутником остается с тобой после возвращения домой! Просыпаешься — и нет ни дежурной медсестры, ни пожарных пимпочек, растущих на протянутых по белому потолку проводах, ни тумбочек с гниющими фруктами и подштанниками, а ощущение от реальности практически то же самое, и спрятаться от этого некуда. Вот он, стоит перед тобой, смотрит в упор то ли с ухмылкой, то ли даже с какой-то садистской влюбленностью — диагноз. Перспектива медленного и мучительного умирания. Умирания, которое не облегчают, а отягощают попытки лечения, сопровождаемые всполохами бессмысленной надежды.
Не раз отчаянным, почти истерическим криком в нем звучало: «Ну почему я?!!». Почему именно его коснулось ЭТО? Все было так мирно, такой чужой всегда звучала тема беды, такими абстрактными всегда казались мысли и слова о смерти. Он, конечно, не сомневался, что когда-нибудь и по нем застучат комья земли, но это «когда-нибудь» представлялось в совсем другом измерении времени и пространства. Оказалось — в этом.
Он видел себя школьником, затаившимся на контрольном уроке в непонятно откуда взявшейся уверенности, что его не спросят. Он абсолютно не готов к ответу, но знает, что у него все будет в порядке, спросят других, а он... И вот он слышит, что учитель вызывает его к доске. Ваза застывает в свободном полете, электричка взмывает в небо. Мгновение остановилось на звуке гулко упавшего сердца.
Он пытался думать, о том, что будет без него -после того, КАК. Родным, конечно, будет очень тяжело, но он для них — не единственный свет в окошке. Их жизнь не кончается вместе с его жизнью, благо он не один у родителей. А вот что останется от него самого, кроме могилы? Своих детей у него нет. Какого-нибудь важного дела, которое наследовали бы «продолжатели», тоже не завелось. Ничего заметного в своей жизни он не сделал. Но хоть что-то же останется?! Несколько десятков рисунков. Но он не Обри Бердслей и не Надя Рушева. Были попытки писать стихи. (Надо, кстати, перерыть свой стол, пока силы есть — вдруг они там еще целы. Порвать, чтобы никто не хихикал потом над ними.) Какая-то еще писанина, неинтересная теперь даже для него самого. То есть он тихо исчезает, не оставляя никакого следа — язык даже не повернется сказать «на земле» — не о чем было говорить и в самых ничтожных масштабах. Неизбежен вопрос: зачем он тогда вообще жил?
Только для него звучало это не вопросом, на который ему искать ответ, а обращенной неведомо к кому претензией. Обвинение, брошенное в пространство. Только потом, спустя месяцы, он начнет понимать, что это и есть тот вопрос, с которым он вызван к доске.
Доска оставалась черной. Беспросветно черной.
4.

Он поначалу не хотел, чтобы к нему в больницу приходили друзья. Не хотел, чтобы они видели его раздавленным больницей, не хотел, чтобы их общение было опутано вот этой атмосферой. Ему все это давало повод представлять себе посещение гранитной тумбы с его портретом: сделают дежурно печальные лица, оставят пачку печенья и еще какую-нибудь дребедень (радость кладбищенским воронам и бомжам) и пойдут восвояси с чувством выполненного долга. Потом, когда стало яснее, кто действительно любит, а не просто рад вместе ненапряжно провести время, стало уже все равно — где и как, только бы не упустить неповторимые минуты возможности быть рядом. Зато «на свободе» поначалу, когда ему после выписки все продлевали больничный, и было полно времени, а диагноз на самочувствии сказывался не так заметно (если не считать уже привычного ощущения кромешной усталости, теперь еще и усиленной глухим депрессняком — как ни пытайся скрыть свой депрессняк ото всех окружающих, от собственного организма его не скроешь), он то собирал кого-то у себя, то сам пропадал где-то, насколько хватало сил. О диагнозе еще не знал никто, кроме родственников, с которыми продолжалась игра в прятки (я делаю вид, что ни о чем не догадываюсь, вы делаете вид, что не догадываетесь, что я все знаю, я делаю вид, что не понимаю, что все мы играем в интересную игру, и все мы делаем вид, что сегодня мы как никогда), и он очень боялся, что кто-нибудь узнает, и он перестанет в глазах окружающих быть тем, кто он есть, и станет объектом жалости. Гораздо уютнее ему казался почти шутовской его имидж (правда, если это и был шут, то шут гордый). Независимый и старающийся быть беззаботно веселым, иногда в меру язвительный (какая же без этого независимость), он удачно держал эту марку, только вот однажды выдал непростительный прокол.
У него был день рождения. Он не без основания предполагал, что этот день рождения последний в его жизни, и он собрал в своей квартире разномастную толпу хороших людей, которых рад был видеть, и эти его чувства, разумеется, были взаимными. Он потратил все, что мог, не думая о том, что эти деньги могли бы пригодиться ему на лечение, накрыв головокружительный стол тщательно подобранными на собственный привередливый вкус напитками и съедобностями. Некоторые из приглашенных догадались всякие замечательные бутылочки принести с собой, так, чтобы в общей сложности мало не показалось. Еще было целых две гитары и одна флейта. Было здорово. Пиром во время чумы это было только для него, и в какой-то момент он достаточно остро это почувствовал, и тогда решил попытаться поднять себе настроение подражанием толкиеновскому герою: стал по поводу собственного дня рождения раздавать подарки всем пришедшим. Книги, пластинки, кассеты, почти ненадеванный галстук-бабочка, замысловатая картинка со стены, какие-то сувениры с книжных полок... Никто не понял, что бы это значило, но для того, чтобы удивляться, все были уже слишком завеселевшими, поэтому толкиенство прошло на ура. Всеобщее воодушевление переросло в очередной тост, разумеется, далеко не последний. Ему самому затеянная им раздача слонов не сильно помогла: лишний раз пришлось вспомнить о том, что уже мало что из его вещей успеет ему пригодиться, зато последовавшая за этим расслабляющая волна достойно сделала свое дело. Жить стало легче. Он долго не ощущал себя пьяным. Казалось, жидкость проваливается куда-то в камеру хранения, не оказывая заметного влияния на организм, лишь давая возможность оставаться в этом мутновато-блаженном состоянии. Счастливые дамы, увлеченные их обаянием парни, то лирические, то веселые звуки инструментов в прекрасно владеющих ими руках, вкрадчиво просачивающийся с балкона запах дорогих сигарет, все еще не кончающееся содержимое волшебных сосудов с красивыми этикетками — атмосфера не оставляла желать лучшего. У таких дивных вечеров есть все-таки один существенный недостаток: они когда-нибудь кончаются. Прозвучали в последний раз торжественные поздравления и с ними всеобщее ощущение того, что пора расходиться. А его как раз на этой рюмке окончательно догнало и стукнуло чем-то тупым по мозгам. И перспектива сразу после этого нереально прекрасного празднества остаться один на один со своей тоской совсем не порадовала...
— Родные мои... Кто-нибудь, останьтесь, пожалуйста, у меня ночевать... Ну куда вам спешить, — произнес он несколько нечетким голосом.
Реакция окружающих была вполне естественной. Кто-то, конечно, был не против посидеть еще полчасика, кому-то уже давно было пора, что тут поделаешь. Но оставаться здесь на ночь — это, конечно, несерьезно, это совсем ребячество, у всех свои дела, — и так удивительно, что всем удалось выбраться сюда на целый вечер.
— Останьтесь, кто-нибудь, пожалуйста, я очень прошу вас... Ну у вас дома ребенок, у тебя семья, я же о вас и не говорю, а ты... и ты... Не уходите... Ну позвоните, если кто вас там ждет, и оставайтесь, у меня полно места... Ну хотя бы кто-нибудь...
Он заплакал. Совершенно неожиданными были эти пьяные слезы. Вроде бы не так уж много он выпил. Все было так здорово, и вот тебе...
Останьтесь кто-нибудь со мной... Не уходите... Не оставляйте меня одного! — Он плакал в голос, его помутневший взляд то беспомощно метался по гостям, то прятался в дрожащие пригоршни, потом он, как бы спохватившись, выбежал из комнаты, и звуки рыданий стали слабо доноситься откуда-то из кухни. Какое-то время все были в оцепенении. Никто не решился — или, может быть, никто не догадался побежать за ним следом. Однако те, кто был пьян, казалось, протрезвели в одночасье — так прошелся морозом по спинам этот необъяснимый, неожиданный, безудержный его плач.
5.
Как-то раз он умер. Потом стали происходить вещи, с одной стороны, естественные, с другой стороны, совершенно непонятные. У всех близких на лицах отразилась естественная тоска, только, может быть, не столь острая, нежели он ожидал, но он не стал переживать по этому поводу, а стал разлагаться. Это был процесс неприятный, но опять-таки естественный. Его стали готовить к похоронам: переодели, положили в гроб, обставили венками; он лежал среди них с буровато-желтым лицом и разлагался, думая при этом о том, что как-то это все не так. Было, кроме всего прочего, досадно и странно, что это произошло слишком быстро, он по идее должен был еще поболеть, пожить, но раз уж помер, что ж теперь делать... А что-то не так, было, например в том, что он лежал с открытыми глазами и все ими видел (обычно в гробу так не лежат), и при желании мог даже шевелиться. Он не дождался похорон: когда ему стало окончательно понятно, что происходит полная ерунда, начала ему сниться какая-то другая мерзость.
Да, не всегда сны бывали такими, в которых хотелось остаться. Случались сны, от которых хотелось убежать, а они не исчезали из сознания и после пробуждения — остается гадостный осадок, и никак не можешь от него отделаться. С течением времени он все реже видел добрые спокойные сны, в которых он был здоровый и беззаботный, и все чаще неблагополучие ставило на его сны свой отпечаток. То и дело он куда-то спешил — бежал, мчался, несся в сумасшедшем поезде... Как правило, было непонятно, куда и зачем, или от кого; и никогда в этих снах он не достигал какой-либо цели.
В больнице ему снилось, что он — либо дома, либо в каких-то еще местах, но только не в своей палате. Во многих случаях это было не лучше — даже если он был во сне здоровым, он ждал, что вот-вот ему сообщат его диагноз. Даже если не сообщали — он знал, что дальше все равно будет что-то очень плохое. Бежал, мчался, опаздывал... Казалось, вот еще чуть-чуть — и беда отстанет от него, потеряется где-то в другом городе...
Города в его снах были вперемешку. Он там легко и незаметно для себя перемещался из одной реальности в другую. Откуда же эта наивная надежда на то, что беда не сможет сделать то же самое...
А дома ему часто снилась больница. Палаты, коридоры, операционные... И почему-то в снах больница не так давила на него, как наяву казалась уже естественной и привычной средой его обитания. А бодрствуя, он и дома не ощущал себя дома — не забывалось, что через столько то дней придется вернуться в палату, и там очередные курсы химио- и лучевой терапии, какие-то еще процедуры, уколы, посещения с 11 до 12.30 и с 17 до 19, кефир в холодильнике. Так и хотелось надеяться, что его дом теперь где-то еще. Где?
Еще во сне он иногда виделся с любимыми людьми. В том числе с теми, кого уже очень давно он не видел наяву. Часто во сне он понимал, что это только сон, и все равно радовался. После одной из таких ночных встреч он с ужасом думал о том, что в самые последние дни, когда он будет уже в полусознательном состоянии, вдруг ему будет казаться, что к нему пришли те, кого он давно ждал, а на самом деле их не будет... А он в бреду будет пытаться разговаривать с ними... Или наоборот -вдруг... Вдруг Надя придет, а он не поверит, что это действительно она...
Надя ему тоже снилась. Сколько раз он думал о том, что надо бы попытаться позвонить ей. Может быть, узнав, что он болен, Надя согласится хотя бы прийти попрощаться. Но он очень боялся, что она услышит его голос и бросит трубку. А передавать ей через кого-то... Нет, он должен позвать ее сам.
Собственная смерть снилась ему очень редко. Но не раз во время бодрствования свербило в памяти шекспировское: «Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?» Как ни пытался он запретить себе думать о том, что ждет его с распадом физического тела, Гамлет не отставал. С идеей «выключенного телевизора», который наступает с остановкой сердца, его живое «я» согласиться не могло, а озадачиваться этой темой он боялся — заканчивать свои дни в психушке ему хотелось не сильнее, нежели в онкологии. Он думал: сейчас только произнеси вслух вопрос, отовсюду набегут и все объяснят, а ты только верь. Лучше уж — доживем до смерти, а там посмотрим. Но все-таки — а вдруг для того, что ТАМ, еще можно успеть что-то сделать ЗДЕСЬ?..
6.

Он открыл дверь раньше, чем звонок успел досвистеть до конца свою мелодию.
— Лешка! Рад тебя видеть. Заходи.
Рукопожатие, хлопки по плечам. Алексей разулся, повесил куртку на ручку дверцы шкафа и прошел в его комнату.
— Чай будешь?
— Потом. Давай пока просто посидим...
— Рассказывай.
— Да у меня все так же. Пришел вот на тебя посмотреть.
— А я знаешь кого вчера видел?.. — и дальше пошел обыкновенный приятельский треп, как и всякии треп, не несущий в себе ничего ценного. Однако Алексей по глазам собеседника мог бы понять, что им было бы о чем поговорить более серьезно, только до поры их глаза встречались в каком то не том ракурсе.
— Слушай, Леха! Я для тебя анекдот профессиональный приберег. Гинеколог с патологоанатомом после тяжелого трудового дня поддатые в обнимку идут с работы: «Гляди, люди! Живые!» — «Ага! И все лица, лица!!!».
— Рассказывал ты мне уже этот анекдот, — посмеялся Леша, но все равно здорово. Еще как-нибудь то же самое расскажешь — еще посмеюсь.
— Сейчас я тебе еще один анекдот расскажу, какой ты не слышал. Только сначала ответь на вопрос: что такое меланома?
— Злокачественная опухоль кожи.
— Это я знаю. А чем она от других отличается?
— Метастазирует быстро. А что, у тебя анекдот про меланому?
— Ага. Ухохочешься. И сколько с этой фигней человек прожить может? — Его беззаботная интонация начала давать сбои: голос выдавал, что анекдот будет несмешной.
— По-разному... Имеет значение возраст человека, общее физическое состояние, с какой стадии начали лечить и как, — при этих словах Алексей стал серьезнее. — А зачем это тебе понадобилось? У кого этот диагноз?
— У меня.
Долго была тишина. Алексей напрочь не знал, что можно сказать в ответ на это признание. Слова на ум приходили, но вместе с ними приходило ощущение, что говорить их не следует. Его собеседник, сказав главное, скинул ту маску, которая заставляла его болтать всякую чушь. Алексей боялся, что если он станет говорить что-нибудь ненужное, на смену ей придет другая маска. Наконец, решив удержаться и от сочувствий, и от оптимистических прогнозов, спросил:
— Ты давно знаешь об этом?
— Помнишь, когда меня положили на вторую операцию?
— Почему ты тогда не сказал мне?
— Зачем?
— А сейчас зачем?
— Знаешь, надо же начинать с кем-то разговаривать до конца откровенно. Я не могу так больше — один, сам с собой... А тогда — не хотел, чтобы все узнали... Сам понимаешь, что началось бы... На фиг надо. А ты все-таки еще и врач. Я подумал, хоть ты мне правду скажешь — сколько у меня еще... месяцев... и как все это будет.
И опять Алексей заговорил не сразу. Встал, отошел к окну, долго в него смотрел, будто надеялся за окном разглядеть ответы на эти вопросы.
— А какие у тебя метастазы, ты знаешь?
— Они, сволочи, не говорят ничего. Я и диагноз случайно узнал. Пока меня готовили, в операцией ную кто то вошел, другой хирург, кажется... И от нечего делать про меня спросил, и ему ответили, а не знали, что я еще не вырубился.
— А может, это у них шутки такие?
— Ага. Я долго смеялся, особенно когда свою историю болезни посмотрел. Я ж тебе говорю -анекдот.
Алексей прижал его голову к своему плечу.
— Начинается...
— Да не буду я тебя оплакивать, не ершись! Просто... Просто хочу, чтоб ты знал, что я рядом, слышишь? Если помощь какая нужна... Или если просто хреново, понял? В любое время суток, хоть под утро.
Они помолчали еще. Глаза у обоих плыли, поэтому друг на друга они старались не смотреть.
— А сколько месяцев — это не врачам решать, а... — начал, да не договорил Алексей. — Хотя обычно... По-моему, с меланомой больше года не протягивают.
— Год — это здорово. Это много. Это еще знаешь сколько дел можно наворотить.
— Только вот если в мозг пойдет, дел тогда останется на месяц максимум.
— А бывает, чтобы выздоравливали?
— Наверно, бывает. Когда удаляют до того, как начались метастазы.
— Не бойся, Лешка, я с ума сходить не буду. Ничего нового ты мне не сообщил. Я так все и представлял, а сейчас хоть кто-то это вслух сказал. Спасибо тебе.
— Тоже мне... «спасибо»... Слышишь, не забывай, что я рядом, слышишь?!...
7.
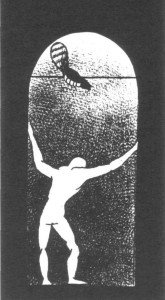
Он не предполагал вначале, что к ЭТОМУ можно привыкнуть. Жить и не лезть на стенку. Ходить по магазинам, навещать по всяческим делам всяческие конторы, быть среди людей и ощущать себя не беспредельно-одиноким-трагическим-персо-нажем, а одним из них. Оказалось — можно. Он даже пробовал выходить на работу. Вряд ли бы ему удалось даже на время вернуться к нормальной жизни, если бы он продолжал игру во все в порядке, но после того, как диагноз был легализован, напряжение неестественности оставило его, и вернулась часть душевных сил, отнятых игрой.
Бывало, конечно, и тяжко. Такие дни Алексей словно чувствовал. Не всегда, правда, но довольно часто он без всяких звонков приходил именно в то время, когда был нужен. Иногда они перезванивались, но это было совсем не то, потому что если можно быть рядом и молчать, то как общаться по телефону тогда, когда говорить не нужно?
Порывы выходить на работу у него утихли после очередного лежания в больнице. Самочувствие позволяло ему гораздо меньше, чем ему хотелось. Большую часть времени он теперь проводил дома, и в его дом стали регулярно приходить друзья и знакомые. С этим все было бы хорошо, только он предпочел бы избавиться от тех визитеров, которых приводило к нему чувство долга. Так остро ощущалось — действительно ли его гостю нужна встреча с ним, даже если тот не знает, как вести себя рядом с безнадежно больным... Однажды он не удержался и в ответ на пожелание очередного сердечного кореша «ну ты, это... выздоравливай!» ответил: «А ты, это — рожай!!!» Потом извинился, увидев, как вытянулось лицо благожелателя.
Хорошо, что если и заходили к нему девушки, то обычно не в одиночестве — либо с подругой, либо с парнем. Так и ему было проще. Дело в том, что в то время, когда он заболел, у него никого не было. Он решил, что это к лучшему, и запретил себе какую-либо связь с женщиной: одноразовые встречи только ради физиологии он с некоторых лор считал для себя неприемлемыми, а пытаться становить с кем-либо серьезные отношения было бы слишком жестоко. И теперь он сохранял приятельство с несколькими давно знакомыми девушками — кто-то замужем, кто-то нет, ему это уже не зажно, ни на кого из них он не хотел бы смотреть как на собственную вдову.
Только вот Надя... Он очень хотел, чтобы она все-таки когда-нибудь пришла, и именно одна. Пусть для обоих эта встреча будет болью — больней, чем уже было, от нового прощания с ним ей не будет. Наверное.
Была у него в эти месяцы еще одна мечта, появившаяся в начале болезни — ему хотелось нарисовать что-нибудь такое... Успеть выкрикнуть о себе. Написать, может быть, или еще как-нибудь сделать что-то, что достойно будет играть романтическую роль «духовного завещания». Собирался зарыться з книги, проникнуться чем-то серьезным и глубоким, и тогда — выдать нечто. Хоть как-то в последний момент попробовать реализоваться, и так, чтобы это было К ГО, живое, настоящее. Эти запоздалые для его возраста юношеские мечтания так и оставались за пределами действительности не потому, то ему было лень чем-то таким заниматься, и не потому, что он понял, что глупо пытаться рожать «о. что никогда не было зачато — просто для того, чтобы только подойти к исполнению подобных задумок, он должен был хотя бы на какое-то время остаться наедине с собой. Как он этого боялся... Уходил, убегал — в друзей, в музыку с текстами непонятно о чем, во всяческие бестолковости. Бежал, мчался, опаздывал... Оставалось только ждать того времени, когда бегать от себя просто не будет физических сил.
Бывали неожиданные визиты — в его доме появлялись люди, связь с которыми вроде бы была утеряна. Слух о его болезни метастазировал в кругах знакомых и почти-не-знакомых ему людей с невероятной скоростью — как будто все испытывали какое-то непонятное удовольствие, сообщая друг другу эту новость. Поэтому встречи с исчезнувшими друзьями не удивляли — раз он обрел такую популярность. (Вот уж спасибо, лучше не надо бы...) Некоторые из таких появлений были однозначно радостными — возгласы, объятия, глаза счастливые — так, что уходит на дальний план повод встречи. Но случалась и какая-то странная радость. Пришел человек, явно искренне захотевший его увидеть, и он очень хорошо к этому человеку относился, но было как-то не по себе, и это «не по себе» заключалось в том, что он помнил собственное предательство, когда-то по отношению к этому человеку совершенное. Причем тот не только не напоминал — его глаза, его интонации, все проявления отношения к нему того человека говорили о том, что он никогда об этом не захочет вспоминать, он давно все простил, и между ними все так, как если бы этого не было. Но именно это и было невместимым: как это можно было просто так простить — и все? Теперь он ощущал свое предательство более остро, чем тогда — вскоре после, и совершенно не знал, что делать.

Каким-то образом они проговорили часа полтора, проговорили о разном, не коснувшись прошлых проблем, и, уже провожая гостя, он через силу выдернул из себя «прости». Не для того, чтобы получить прощение — оно явно уже было и без этого, а — просто он не знал, как выдержит, если тот зайдет еще раз, а чтобы зашел, очень хотелось...
В ответ, разумеется — «ну что ты...».
Он раньше не знал, что бывает непросто принять такой дорогой подарок, как прощение.
Ничего. Он же обязательно придет еще.
Стремление быть с Алексеем до конца откровенным иногда забывалось. В один тяжелый вечер Алексей, пройдя в его комнату, поставил на письменный стол около его кровати небольшую иконку. Поставил и молча посмотрел на него, ожидая реакции.
Он отвернулся и отсутствующим взглядом некоторое время изучал свой шкаф, потом заговорил о чем-то постороннем. Алексей сделал вид, что все так и должно быть.
Ничего. Алексей, конечно же, тоже еще не раз придет к нему. Они еще поговорят. Может быть.
8.
Около него притормозила машина. Он, не останавливаясь и не поворачивая головы, открыл глаза, увидел, что машина ментовская, и закрыл глаза обратно. Менты обматерили его и поехали дальше. На него это не возымело абсолютно никакого действия.
Ментам, видимо, было некогда. Им было бы логично поинтересоваться, почему человек идет ночью вдоль проезжей части как раз на ее середине, да еще и с закрытыми глазами. Наверняка ведь либо пьяный, либо еще что похуже.
Да нет, он был трезвый.
Если только можно было его состояние назвать трезвым. Однако, даже если бы ментам приспичило с ним разобраться, никакой вытрезвитель бы его не вытрезвил. И благо, что его никуда не загребли — дальше могло бы быть хуже. Могло бы быть что-то совсем страшное. До сих пор оно — страшное — все метило в него, целилось, но пока лишь свистело вокруг.
В его жизни были кошмарные похороны. Это было за несколько лет до его болезни. Парень вскрыл себе вены, и его обнаружили слишком поздно. Они не были близкими друзьями, но как-то так всегда рады бывали друг друга видеть... То, что было на тех похоронах, врезалось в него очень глубоко. Оглушительная тишина встала тогда вокруг гроба: даже мать не могла голосить, стояла в оцепенении, глядя сквозь гроб в нездешнюю пустоту. И в этой тишине каждый стоял один на один со своим чувством ответственности за человека, которого не смогли удержать, которому не смогли помочь. Хотя виноватых, казалось бы, не было, тем не менее, на каждого из живых, кто там был, давила эта тяжесть, с которой не сильны были бороться ни доводы, ни отговорки. Добивала нелепость, бессмысленность этого кошмара. И вот эта рваная рана в душе была для него запретом — как казалось, навечно — самому допускать даже мысль о самоубийстве. Табу действовало в нем даже тогда, когда бывало совсем лихо и казалось, что все уже незачем — он знал, что даже если выхода нет, самоубийство — это вовсе не выход. Он смутно ощущал, что это не просто не выход, а вход, и, войдя куда-то туда, уже точно не выйдешь.
Но наступило время, когда все смутные ощущения стали вытесняться одним конкретным и четким. Оно выражалось очень коротко: БОЛЬШЕ НЕ МОГУ. Ни какие-либо воспоминания, ни варианты предположений о том, что бывает дальше, не тормозили созревание решения. А что могло бы его остановить? Страх перед физической болью? Но именно он подстегивал желание уйти самому: есть множество безболезненных способов суицида, а та смерть, которая ждала его в качестве естественной, не обещала быть легкой. Скорбь близких? Все уже — как он думал — смотрят на него как на недопокойника, еще должны будут сказать спасибо, когда он избавит их от тяжкого ожидания и от предстоящей необходимости выносить из-под него утку. Когда он в свете своего предстоящего самоубийства думал о Наде, в нем боролись слезы и какое-то идиотское злорадство.
По мере того, как решение зрело, рождался в нем какой-то азарт игры со смертью. Сначала, через какую-то щель из бездны впуская в душу мысли о самоубийстве, он думал: дождусь того времени, когда станет невыносимо терпеть боль и собственную беспомощность. Потом стало надоедать ждать. Сейчас спрошенный и не знающий ответа ученик с треском хлопнет дверью опостылевшего класса.
Но не было еще сил взять и сделать последний рывок. Вот он и готовил себя к этому рывку с помощью всяких глупых игрушек со смертью, заодно тайно надеясь, что, может быть, и не придется делать никакого рывка — само сорвется...
Только, чем ближе подступало это решение, тем невыносимее становилась сгустившаяся вокруг него мгла. Нет бы легче стало, а то еще сильнее, чем в первые дни осознания обреченности, хотелось выть сквозь зубы.
...Он не смог бы потом никому рассказать, что это было. Мелькнуло, повеяло ли, донеслось слабым отзвуком эха... Может быть, совсем приглушенно, так что только подсознание услышало, прозвучала где-то очень любимая мелодия, может, какой-то запах подкрался и вернул в детство, почудилась ли чья-то добрая улыбка. Или было что-то еще, вовсе незамеченное и непонятое, но оставившее в душе совсем иные ощущения. Он поднял голову, двинул назад плечами, вдохнул глубоко, потом еще раз. С мироздания сползала тьма. Он не отдавал себе отчета в том, что с ним происходило, да, наверное, и не нужно было ему ничего никому отдавать, так же как и не нужно было сдерживать прорвавшиеся слезы.
Он перечеркнул казавшееся уже окончательным решение о самоубийстве. Правда, готовность терпеть любые страдания до конца у него не появилась. Но он очень не хотел, чтобы та тьма возвращалась.
9.
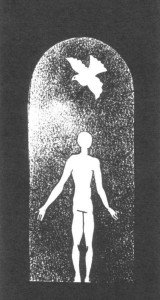
Непередаваемое, непредставимое, почти нереальное счастье — когда ненадолго уходит боль... Еще когда сил так много, что можно одеться, выйти во двор, похрустеть по раннему снегу ботинками. Праздничный вкус воздуха. Такая сказочная возможность пообщаться с деревьями, попадая в щели их коры замерзающими пальцами. Я пока еще выдыхаю теплый пар. Только вот жалко, что он исчезает. Еще какой-нибудь месяц или два — и уже не выдохну, а он не знает и исчезает...
Вселенная стала такой огромной. Доступное тебе пространство ограничилось в тысячу раз, отойти от дома на двести метров для тебя событие, а тс километры, по которым носился когда-то, стали теперь где то не здесь. Даже звезды, кажется, даль ше... Или это потому, что осень кончилась.
Наверное, то пространство, в котором он раньше жил, было двумерным. Как-то он до сих пор не замечал объемов.
Молчать. Смотреть. Дышать. Ходить — тихо-тихо...
Просто жить.
— Кукушка, кукушка, сколько мне — осталось?
— Вечность...
...А когда он лежал в своей комнате, он возвращался в светлое свое отрочество. Было время, когда он, подросток, часто и тоскливо болел, и тепло горела в углу настольная лампа, и мама приносила ужин и таблетки, и уговаривала попробовать хотя бы что-нибудь съесть. И стояло на застеленной полотенцем табуретке молоко в кружке с веселой усатой рожицей, и лежали яблоки и апельсины, и градусник. Навещали одноклассники и рассказывали, что они проходили сегодня по математике, по географии, по биологии, записывали ему номера параграфов, чтобы он не отстал. И он не отстанет, он все выучит, все прорешает, он ответит на всех уроках. Вот он лежит — такой чистый, светлый человек, он совсем юн, он еще не влип в своей жизни ни в какую мерзость, он еще не забыл детской премудрости прощать и любить. Девственник, полноправный владелец своей нерастраченной души. Пройдет его простуда, и не будет болезней, не будет беды, не будет злокачественных клеток, которые расползались в нем метастазами подлости, похоти, злобы и лжи. Он вырастет и станет мудрым и сильным, и он не сделает всех тех ошибок, которые загнали его взрослого умирающего двойника в карцер отчаяния. Он останется светлым и чистым, и он будет жить... Он будет жить вечно.
Кукушка, кукушка... Время — вещь парадоксальная. Его бывает очень много и очень мало одновременно. Он же сейчас никуда не спешит, он может делать все, что угодно — по крайней мере, все, что может позволить себе его угасающий организм. И при этом времени невыносимо мало, оно кончается, и огромную ценность для него имеет каждая секунда, даже самая бесполезная.
То ощущение, которое сдавило его, когда он увидел на листе со своей фамилией слово melanoma, вот то самое — «НЕТ!!!» — но — слишком — поздно... В какой-то день он стал догадываться, что тогда — в ординаторской онкодиспансера — еще далеко не во всей отчетливости оно прозвучало в нем... Еще впереди — потом — может ждать его то мгновение, когда оно будет по-настоящему страшным и окончательным.
И снова он школьник, его неожиданно вызвали отвечать неизвестный ему урок. Мечтай, мечтай, как ты в следующий раз все выучишь, все прорешаешь, ответишь на всех уроках. Следующего раза не будет.
Он лежал в своей комнате. Он все был тем мальчишкой. Он думал о том, что вот уже несколько месяцев он молча стоит у доски, а двойка в журнал все еще не поставлена. Учитель терпеливо ждет. И вот он, учебник, стоит на полке, и есть еще время и силы протянуть руку и взять его.
10.

Ее сознание было заполнено криком о бесконечно близком ей умирающем человеке. Подступившая к нему смерть не напомнила ей о том, что нельзя перестать любить — Надя давно знала об этом. Только раньше она думала — это, наверное, плохо...
Надя пыталась заставить себя молиться не об исцелении. Он сам сказал ей, что не нужно требовать от Господа чуда, тем паче нам с нашей зачаточной верой. Если Бог дал то, что должен был дать, зачем требовать от Него иного — Он-то лучше знает. Есть чудо не меньшее, чем исцеление телесное, и чудо это — прощение и исцеление души, и об этом просила Надя, и запрещала себе мечтать о том, как все будет, если он выздоровеет, тем не менее у старой, афонского письма, иконы великомученика Пантелеймона стояла она, молясь, в уже обжитом ею уголке храма.
— Понимаешь, — говорил ей Алексей, когда встретил ее, идущую к литургии, — за время болезни человек приобретает некий духовный... ну, багаж, что ли. Это именно то, ради чего Господь попускает быть страданиям. Наверное, без страданий мы не способны некоторые вещи воспринять... Да ты сама это чувствуешь... И одного Господь исцеляет для того, чтобы он с преображенной душой оставшуюся земную жизнь посвятил Ему. Знаешь, человеку бывает рано уходить не потому, что он не готов, а потому, что ему дано будет еще очень многим помочь на земле. А бывает иначе: человек, в болезни придя к вере, вымаливает себе исцеление, потом погружается в суету, в свои привычные страсти, и растрачивает все то, что приобрел такой ценой. И тогда, чтобы восстановить утраченное, человек снова идет на свою Голгофу... Представляешь, вот он каким-то чудом выкарабкается, а потом ему придется снова пройти через подобное тому, что он прошел теперь.
— А ты сам, что... так просто смирился с тем, что нам придется его... хоронить?
— Да я... что ты... отдал бы не знаю что... Потом они молчали.
А потом она перед Крестом и Евангелием просила прощения за отчаяние, малодушие, ропот, за весь мрак, который она впустила в свою душу. И шла к Чаше. И замирала в потрясении от того, что Господь может быть НАСТОЛЬКО БЛИЗКО, и что Он настолько глубоко дает сердцу почувствовать, что где-то впереди радость, большая и настоящая, ничего не боящаяся, ничем не затмеваемая, радость, которая перехлестнет с головой все болезни, скорби и страхи, и сотрет их, и смоет, и не оставит от них ни отзвука, ни следа, ни памяти.