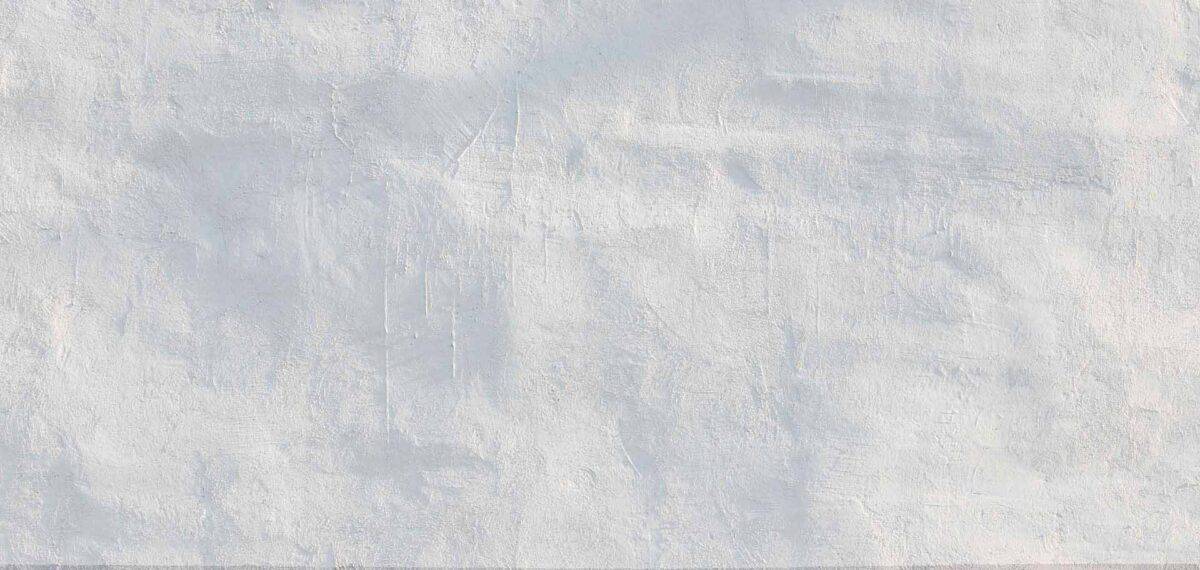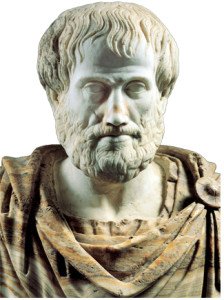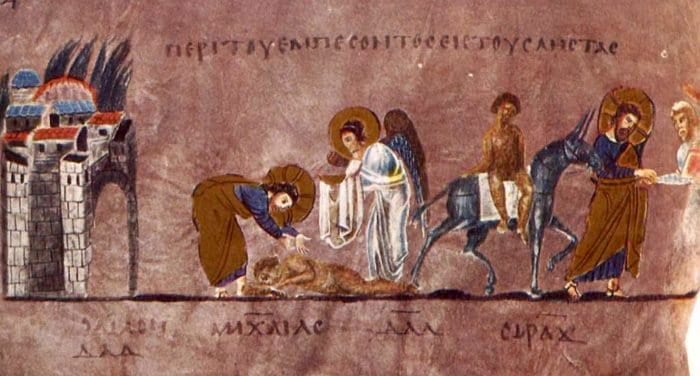О том, как важно не перепутать мораль или этику с чем-то другим, вроде на нее похожим, но сильно по смыслу отличающимся, рассказывает одна забавная история. Одному маленькому мальчику отец решил объяснить, чем добро отличается от зла. Свой рассказ при этом он начал со слова «мораль» (умный папа!). Мальчик же вдруг ответил, что он итак это прекрасно знает, потому что видел мораль нарисованной в книге. В ответ на недоумение отца он притащил книгу о животных и показал на рисунок оленя, под которым стояла подпись «Марал» (и мальчик тоже очень умный, правда!).
История веселая, но со смыслом. Действительно, с одной стороны, чьи-нибудь представления о добре и зле могут весьма шокировать той простотой, что хуже воровства. Хрестоматийным на этот счет является определение добра и зла, данное предводителем одного из африканских племен: добро – это когда мы уведем у соседей стадо коров, а зло – это когда они уведут их у нас.
С другой стороны, каждый человек все же слышит в себе (худо-бедно или хорошо) голос совести, каждый хотя бы логически отделяет добро от зла, понимая, что это полные противоположности друг другу, и т.д.
Всеми подобными вопросами в философии занимается этика. Под ней обычно понимают учение о морали или нравственности. Причем интересно, что лингвистически между тремя этими словами – этика, мораль и нравственность – особой разницы нет, кроме того, что первое слово древнегреческое, второе латинское, а третье русское. Все они в трех языках образованы от слова с одним и тем же значением – нрав, обычай, склад, характер. В древнегреческом это слово τό ἦθος (ēthos), а в латинском – mos.
В значении систематической дисциплины термин «этика» (как и многое другое) впервые употребил Аристотель. Она встречается в названии всех трех его сочинений, посвященных проблемам нравственности: «Никомахова этика», «Евдемова этика», «Большая этика».
Между прочим, Аристотель не отделял учение о морали или нравственности от учения о государстве. Более того, этика для него была, прежде всего, наукой о государстве, и именно его благо или счастье этика по мысли Аристотеля должна ставить своей высшей целью:
«Надо, видимо, признать, что оно, [высшее благо], относится к ведению важнейшей [науки, т. е. науки], которая главным образом управляет. А такой представляется наука о государстве, [или политика]. Она ведь устанавливает, какие науки нужны в государстве и какие науки и в каком объеме должен изучать каждый. Мы видим, что наиболее почитаемые умения, как-то: умения в военачалии, хозяйствовании и красноречии – подчинены этой [науке]. А поскольку наука о государстве пользуется остальными науками как средствами и, кроме того, законодательно определяет, какие поступки следует совершать или от каких воздерживаться, то ее цель включает, видимо, цели других наук, а, следовательно, эта цель и будет высшим благом для людей [вообще].
Даже если для одного человека благом является то же самое, что для государства, более важным и более полным представляется все-таки благо государства, достижение его и сохранение. Желанно, разумеется, и [благо] одного человека, но прекраснее и божественней благо народа и государств».
Аристотель. «Никомахова этика».
В этих словах помимо прочего хорошо виден языческий характер этики древних, то, что она, хотя и признавала многие нравственные закономерности, ее горизонт был замкнут земной перспективой – государством или народом. Высшее благо она в лице Аристотеля понимало не как единство с Богом, а как благо государства, всего коллектива сограждан.
Также и в дальнейшем для, например, стоиков с их пантеизмом, которые разделили философию на три части – логику, физику и этику, – Бог и Божественный закон, которому должны повиноваться люди, были неотделимы от природы, являлись внутренним Логосом этого мира или космоса.
С приходом христианства и в Средние века укрепилось представление, что источником нравственных очевидностей и закономерностей является Бог, а полный и достаточный учебник нравственности – это Священное Писание и учение Церкви. В Православии конечная цель человеческой жизни трансцендентна и ведет на Небо, а не замыкается в земную перспективу. Она заключается в обожении, как можно более возможном уподоблении себя Богу не по сущности (что в принципе невозможно), а по благодати и энергии.
Однако в Новое время все больше распространение стала получать идея, что этика является автономной, самодостаточной и независимой от религии дисциплиной. С этой точки зрения моральные требования итак очевидны, если человек хорошо всмотрится в себя, и ни в какой религиозной санкции они не нуждаются. Особенно четко и развернуто эти идеи изложил немецкий философ Иммануил Кант в своем учении о нравственности и критике практического разума. И вообще, в конечном итоге никакая религия не нужна. Она по большому счету своим обрядоверием и суеверной верой в чудеса только мешает человеку быть по-настоящему нравственным и добрым.
Все это, конечно, поднимает очень сложные проблемы, которые обсудить в одной маленькой статье заведомо немыслимо. Здесь же я хотел бы обратить внимание на то, что само слово τό ἦθος (ēthos), от которого образован термин «этика», первоначально значило не нрав или обычай, а – дом, местопребывание кого-либо, жилище человека. Лишь потом, с течением времени оно получило свое второе, теперь основное значение. И поэтому когда, например, в древнегреческих книгах встречаются выражения ἤθη τῶν λεόντων или ἤθεα ἵππων, то это значит вовсе не «нравы львов» или «характеры лошадей», а «логова львов» и «стойла лошадей».
С такой лингвистической точки зрения получается, что этика – это родное место для человека, которое в мире или бытии предназначено ему и для него. И что считать нравственными нормами и моралью, будет определяться изначальным представлением о том, что является домом, родным местопребыванием для человека. Если это родное пространство создают Бог и Церковь, то этика будет одна, христианская. Если, как по Канту, моральные законы человеческий разум дает себе сам, то этика будет иной. Например, Кант считал милосердие и милостыню не добродетелью, а напротив, чем-то недолжным и нехорошим, потому что с его точки зрения они поощряют слабость в человеке и не отвечают его чувству собственного достоинства (удивительное бесчувствие!).
В общем, скажи мне, где ты живешь, обитаешь или бытийствуешь, и я скажу тебе, какая у тебя этика.