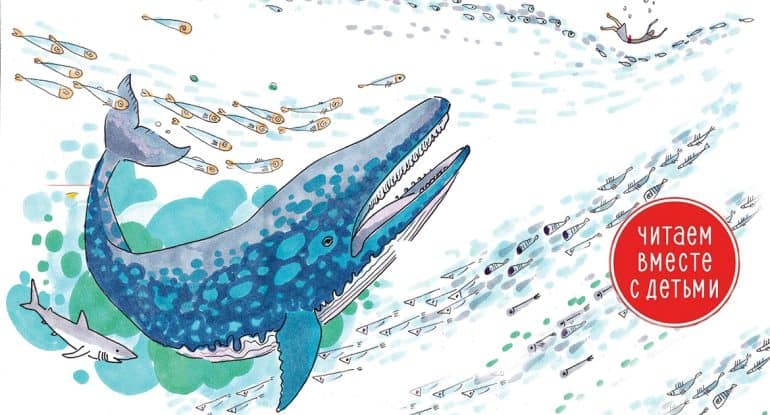Апрель. По утрам легче проснуться. Мама распахивает окно, и плечи зябнут. Форточка пахнет прошлогодними листьями и яблоками из овощного магазина за углом. Воробьи на дворе суетятся от холода, наверное, ночью случился ливень. Полкан цепью звенит в соседнем огороде, отряхиваясь от водяной пыли. А та забивается в густую шерсть, капает с ушей, мешает смотреть, затекая в безропотные собачьи глаза.
Хочется выскочить на балкон, взглянуть на простывшее небо, чистое, растрепанное. Мир вот-вот дрогнет от кашля и закончится нечаянным дождем, задержавшимся в розовой паутине веток. Деревья, тяжелые от капель и своей красоты, боятся шевелиться. Легко на сердце, когда весь день зависит от того, куда летят тучи. Их на север несет - значит, будет клев.
Хлопает входная дверь. Мать ушла на завод. И Юрка достает из-за шкафа удочку, напяливает рыбацкую ветровку поверх школьной формы, кладет за голенище сапога нож со свастикой - трофейный, подарок деда, - и мчится по лестничным пролетам, перемахивая через ступеньки, чтобы соседи не заметили его с удочкой.
У подъезда ждет Женька Черемисин, в огромных кирзовых сапогах, которые бросаются в глаза раньше, чем сам друг, серьезный, в новой твидовой кепке.
А на реке новорожденная вода. И солнце в ней прозрачное. Она еще пахнет снегом и Вербным Воскресеньем. Мужики жгут по берегам костры, вверх по теченью идет плотва. Одежда пропахла дымом. Все время насморк и обветренные глаза. И все казалось таким знающим свою сокровенную радость. Река непременно уносила щепки, простодушно доверяя тому, что это двухпалубные корабли. Полкан верил, что Юрка индеец. Рассеянные облака ничем не отличались от рассеянных мыслей. Не было причин для ветра и мальков, подражающих ему в синем луче у самого дна. И смысла не было для того, кто рисовал эти фрески на воде, в которых сквозило то святое, то черное, и шатался поплавок, брошенный в бездну. Смотрел в нее часами, леску дергал, и спрашивать ничего не хотелось.
Все закончилось так неожиданно и нелепо. В четверг, после уроков, за лесом почернел воздух, хотя солнце еще беззаботно шелушило краску на косых заборах у площади и согревало прошлогодние афиши. Стало казаться, что все улицы кончаются в темноте вместе с бегущими зонтиками и машинами. Столбы света еще струились в голубые про руби туч, а здесь, на земле, били в пыль, перемешанную с абрикосовыми лепестками. Неистовый суховей срывал со скамеек газеты, однако пацаны не помчались домой.
В беседке свалили портфели в кучу и пошли смотреть, как молнии полыхают синим, газовым пламенем в пролетах огромной колокольни, которую не смогли взорвать прошлой ночью. Учитель истории сказал, что заряда не хватило.
Юрка поднял голову, чтобы увидеть, как погасает сиреневое эхо, расплываясь кругами в глазах. Боже, - что там творилось! Это была чудовищная Куликовская битва в тучах. И сердце радостно, без разбору заколотилось от страха и предчувствия безысходной силы. Такого заряда хватило бы не только на церковь, но и на кирпичный завод.
Глядя на то, как буянит природа, хотелось какого-то безрассудного геройства. Юра всегда отличался меткостью. И дети бросали камнями в церковь, а он был точнее, сильнее всех. Самые тяжелые булыжники хватал, и они долетали до узких окошек. Все смеялись разбитым стеклам и своей наружной смелости, а небо молча заморгало молниями, посветлело и пошел дождь.
Разбежались по домам. А Юрке все казалось, что над ним кто-то улыбается. Капли падали на взъерошенную голову.
До вечера не зажигал огня. На душе как-то пусто и скверно. Шершавое ощущение. Так же было, когда он убил из рогатки своего первого воробья. Маленький такой, теплый. Думал, что они гораздо больше. Желтые обои, радио шепчет на кухне, как будто ночную молитву. Нет сил выключить, и есть не хочется, и голод противно поселился внутри. Дождя давно нет. Вместо него будильник, такой же незаметный. Только никогда не закончится.
Мать вернулась поздно. Ночью Юрка плакал и кричал во сне. Она его гладила по голове, обнимала и успокаивала, как маленького. Но утром он проснулся взрослым, и никогда уже не видел новорожденной воды в апреле. Она казалась ему обыкновенным ручьем, лужей, в которой плавает небо с листьями. А облачные фрески. Тающие в их глубине созвездия мальков ... не бывают они. Уже не верилось в это исподнее небо у самых ног.
Никогда не поднималась рука бросать камни в тихий затон, - что зря небо шатать, и рыбу по безветрию не прикармливал.
А церковь снесли все-таки. Не нашел он ее. Стояло что-то болезненно белое, высокое в глубине детства, на краю площади, такое жутко знакомое... Бог знает, куда делось. А была ли она вообще? Да, теперь не войдешь вовнутрь.