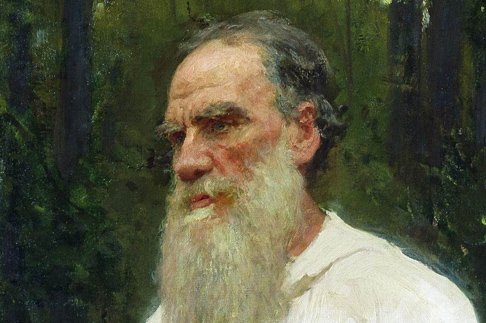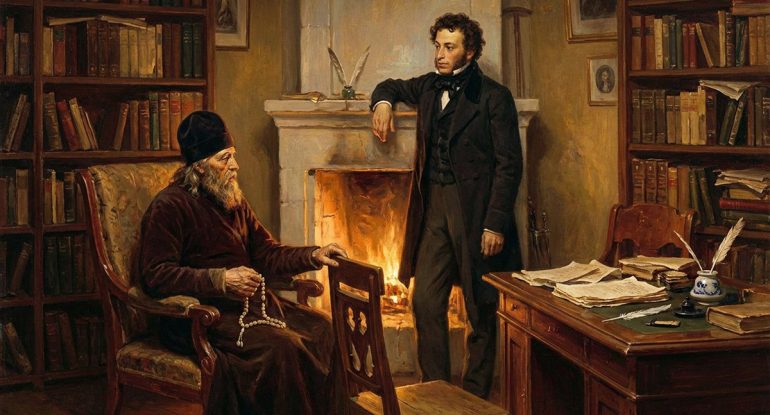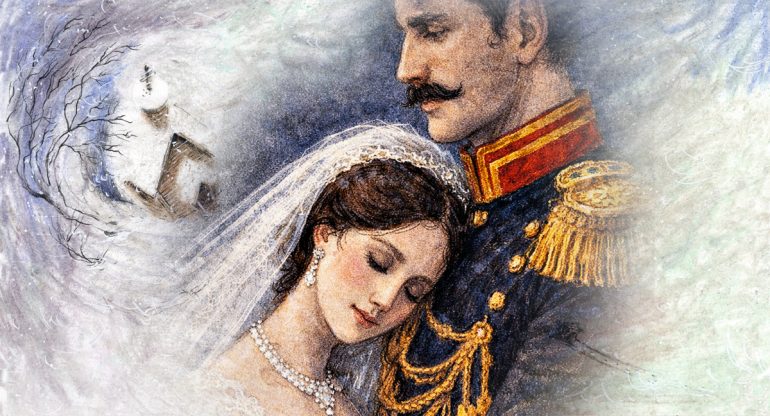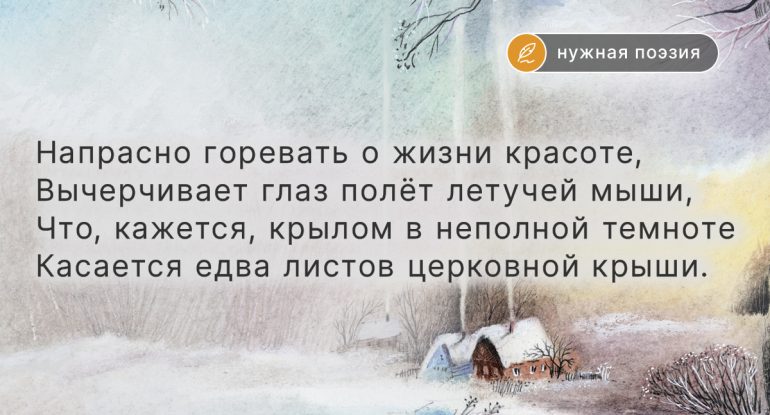Массовые представления о том, как русская интеллигенция относилась к учению Льва Толстого, зачастую примитивны, а то и вовсе неверны. Что же на самом деле представляло собой учение Толстого, и как его воспринимало образованное русское общество? Как изменилось отношение к идеям Льва Николаевича после революции 1917 года? В чем особенность заочного спора отца Иоанна Кронштадтского с Толстым? Об этом мы беседуем с проректором Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиереем Георгием Орехановым.
Лев Толстой как губка русской жизни
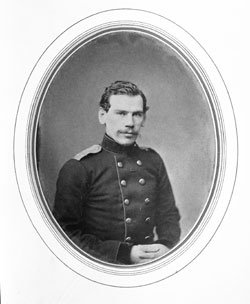
— Отец Георгий, почему учение Льва Толстого было столь популярно у дореволюционной русской интеллигенции? Почему было так много толстовцев?
— Давайте для начала уточним, кто такие толстовцы. В строгом смысле слова это люди, которые пытались на практике осуществить идеи Льва Николаевича Толстого насчет совместного ведения хозяйства, обработки земли, общности имущества и так далее. Такие люди создавали сельскохозяйственные коммуны, некоторые из которых просуществовали даже до 60-х годов прошлого века. Но таких толстовцев-практиков было очень немного.
А вот если понимать слово «толстовцы» в широком смысле, то чуть ли не каждого тогдашнего русского интеллигента можно назвать толстовцем — потому что влияние Толстого на все русское образованное общество было огромным. Как писал Б. К. Зайцев, «наше поколение невозможно представить без собрания сочинений Толстого, зачитанного до дыр». И его не просто читали, а обсуждали, спорили, пропускали все его мысли через себя.
Теперь о причинах такой популярности. Дело в том, что Лев Толстой был не только выдающимся художником — он еще умел улавливать болевые точки, которые были в российской жизни. Толстого мучило, тревожило то же самое, что и остальных образованных людей. У России второй половины XIX века были серьезнейшие проблемы: это, к примеру, так и не решенный земельный вопрос, это нищета и невежество простонародья, это нараставший конфликт между интеллигенцией и властью.
Толстой прежде всего силен своим пафосом сочувствия народной беде. И это подлинный пафос — Толстой прекрасно знал жизнь крестьянства, живя в Ясной Поляне (по сути, большой деревне), видел всё своими глазами. Порой говорят, что Толстой играл на публику, изображал из себя народного заступника, но, судя по всему, что я читал о нем, это не так, никакого притворства не было. Ленин называл Льва Толстого «зеркалом русской революции» — а я бы сказал, что он, как губка, вобрал в себя многие болевые точки русской жизни. Именно это и способствовало его популярности.
Но была и другая, не менее серьезная причина: помимо пафоса сочувствия страдающему народу, в учении Толстого был и пафос отрицания, разрушения существующих государственных и культурных институтов — монархии, аппарата принуждения (армии, полиции, суда), Церкви, семьи. И вот эта его «негативная программа» находила горячий отклик среди людей, симпатизирующих революционным идеям: социал-демократов и их идейных сторонников из интеллигенции.
Кстати говоря, помимо знаменитого ленинского определения Толстого как зеркала русской революции, в те годы был и другой слоган — «зеркало русской интеллигенции». И тут нельзя не вспомнить слова русского философа Георгия Федотова об интеллигенции — что она всегда была «между молотом власти и наковальней народа». Вот и Лев Толстой метался между этими молотом и наковальней.
Непротивление... и разрушение
— Но тут возникает некое смысловое противоречие. В учении Толстого огромную роль играет идея «непротивление злу силой». Как же в одних и тех же головах совмещались и непротивление, и желание переустроить общество силой?
— Это кажущееся противоречие. Иллюзия возникает оттого, что, во-первых, все поклонники учения Толстого мыслятся как нечто цельное, единое, а во-вторых, само учение Толстого воспринимается как четкая, внутренне логичная, взаимосвязанная философская система. Но на самом деле нет ни того, ни другого.
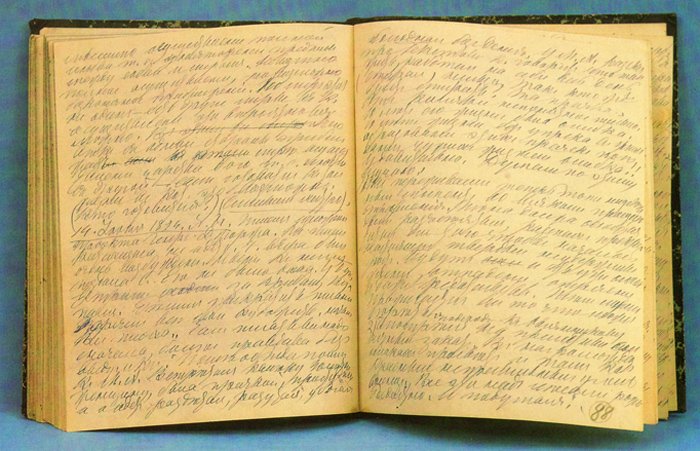
Никакой четкой философской системы Лев Толстой не создал. Если называть «учением» его религиозные и публицистические сочинения, то они распадаются на три не слишком-то связанных друг с другом блока: это обличение власти и государственных институтов, это попытка создать свою версию христианства и это, собственно, учение о непротивлении злу силой. Само по себе это учение о непротивлении не является неким неизбежным следствием ни религиозных взглядов Льва Николаевича, ни политических. Более того, на примере Индии мы видим, что идея непротивления может вырасти на совершенно иной религиозно-культурной почве и при этом вовсе не подразумевает ни разрушительной политической деятельности, ни переоценки традиционных религиозных представлений.
Вообще, замечу, что толстовская идея о непротивлении злу была наименее востребована его поклонниками. Как, в общем, и его попытка переписать Евангелие, создать свою версию христианства. Большинству тогдашних почитателей великого писателя нужно было совсем другое, а именно: его разрушительный пафос. Им восторгались именно из-за его нападок на государство, на связь между государством и Церковью, на традиционный семейный уклад. Фактически Толстого воспринимали как полезного попутчика. Образно говоря, как таран, которым можно прошибить стены «старого режима».
А надо сказать, разрушительный пафос Толстого был очень силен и вовсе не сводился только к неким теоретическим рассуждениям. Так, например, в «Солдатской памятке» (напечатанной в 1890-х годах огромным тиражом в Англии, в издательстве, созданном секретарем и помощником Толстого Владимиром Чертковым) есть прямые призывы бросать оружие, не подчиняться командирам. Разумеется, это было крайне выгодно всем тем, кто мечтал свалить «прогнившее самодержавие» и построить на его обломках «прогрессивное общество».
— То есть получается, что те головы, в которых уживались и симпатии к непротивлению, и симпатии к революции, были крайне немногочисленны?
— В принципе да, хотя тут необходима научная осторожность. Дело в том, что у нас нет никакой статистики, сколько было революционно настроенных почитателей Льва Толстого, сколько было приверженцев его религиозных идей, сколько людей всерьез восприняли идею о непротивлении злу силой. Вообще, то, как влияет тот или иной мыслитель на общество, чаще всего остается неисследованным. Во всяком случае, делать какие-то количественные оценки сложно.
Поэтому, исходя из общих соображений, отвечу так: да, скорее всего, смесь из непротивления и идей революционного переустройства встречалась редко, но сколько именно было таких людей, судить не берусь. Во всяком случае, если такие и были, то остались незамеченными, не создали какого-то, как сейчас сказали бы, «тренда».
В целом всех поклонников Толстого можно разделить на две группы. Во-первых, это те, кому был наиболее близок негативный пафос его сочинений и для кого он был именно что попутчиком, стратегическим партнером, тараном, инструментом разрушения старого мира. Таковых, как мне кажется, было большинство. И во-вторых, это те, кто увлекся именно религиозной стороной учения Толстого, это близкий круг его единомышленников, это «толстовцы» в строгом смысле слова, создававшие сельскохозяйственные коммуны. Этих людей было гораздо меньше, и они, как правило, держались в стороне от революционной деятельности. Тем более что после первой русской революции 1905 года, когда происходили убийства, погромы, поджоги усадеб, у интеллигенции наступило некоторое отрезвление.
Переоценка ценностей
— Давайте перейдем к заочной полемике отца Иоанна Кронштадтского со Львом Толстым. Иногда создается ощущение, что отец Иоанн переоценивал влияние учения Толстого на отпадение людей от Церкви, что ему бы лучше стоило полемизировать с революционерами. Что Вы об этом думаете?

— Я не согласен с такой позицией. Почему отец Иоанн восставал именно на толстовское учение? Да потому что тогда в России среди идейных «разрушителей» просто не было фигуры, равновеликой Толстому. Толстого знали абсолютно все, абсолютно все им зачитывались, он был ярок, талантлив, харизматичен. С кем еще отцу Иоанну было спорить, против кого писать статьи? Против Ленина, которого тогда мало кто знал? В том-то и дело, что Толстой был враг понятный, известный, что он разрушал фундамент русской культуры, а этот фундамент, как прекрасно понимал отец Иоанн — Православие. Потом это поняли и другие.
Вообще, неправильно считать, что в этой идейной борьбе было два полюса — Толстой и отец Иоанн Кронштадтский, а кроме полюсов, ничего и не было. Многие русские мыслители со временем тоже поняли, какой вред именно культуре наносит толстовское учение. Например, это поняли Иван Бунин и Марк Алданов, которые как литераторы, как художники были очень близки Толстому, восхищались его творческой манерой, но не его идеологией.
— Интересно, а изменилось ли у русской интеллигенции отношение к идеям Толстого после революции 1917 года?
— Опять же, смотря о ком говорить. Если речь о близком круге помощников и единомышленников Толстого, например, Черткове и его окружении, то у них ничего не изменилось. Что касается оставшихся в советской России толстовцев, создававших коммуны, — тут вопрос сложный. Сложный прежде всего потому, что практически все эти люди в советское время были репрессированы, жизнь большинства из них сложилась трагически, и что они думали в лагерях и ссылках про учение Толстого, просто неизвестно. Но вот если говорить о русской интеллигенции, которая оказалась в эмиграции, там переоценка произошла, причем не только у отдельных людей, а массово. После того, что случилось с Россией, признавали они, всерьез говорить о политических идеях Толстого уже нельзя.
Кроме того, в этих же кругах чем дальше, тем большим авторитетом начинал пользоваться Федор Михайлович Достоевский, которого наконец-то прочитали как следует и даже увидели в нем пророка, предсказавшего революцию, особенно в романе «Бесы». И фигура Достоевского постепенно стала вытеснять Толстого. Ну и, конечно, многих русских либеральных интеллигентов случившаяся и со страной, и с ними лично катастрофа привела в Православную Церковь, они стали воцерковляться — и это тем более заставляло их критически взглянуть на толстовское учение. Кстати, воцерковление привело и к тому, что иначе они стали относиться и к отцу Иоанну Кронштадтскому, который был очень популярен в Русской Зарубежной Церкви (и канонизирован там куда раньше, чем в России).
Такая вот переоценка ценностей.
— Если говорить о сути заочного спора между отцом Иоанном Кронштадтским и Львом Толстым, можно ли сказать, что спор этот окончен, что история расставила тут все точки над i? Или в других формах, с другими персоналиями он продолжается в России и по сей день?
— Безусловно, продолжается. Это принципиальный спор, который в разное время может принимать разные обличия, но в целом суть его в следующем: в чем смысл христианской веры и христианской традиции? Является ли церковная, православная традиция адекватным отражением христианского благовестия и христианского опыта, как утверждает прот. Иоанн Кронштадтский, или, как проповедует Л. Н. Толстой, этот опыт был в истории искажен Церковью и требует нового осмысления и, что самое главное, совершенно нового понимания, далекого от понимания Церкви? Мы видим, что в современном мире этот вопрос обретает новое измерение.
Есть ряд социологических исследований на тему, каково отношение российской молодежи студенческого возраста к религии. Так вот, большинство считает себя людьми верующими, но тех, кто знает церковное вероучение, и даже тех, кто просто хотел бы узнать правду о Церкви, гораздо меньше. Иными словами, современная молодежь не отрицает важности религиозной жизни, но далеко не всегда ассоциирует ее с Церковью. В Европе, кстати, точно такая же картина. Вот важный отголосок спора отца Иоанна и Толстого и вот огромное пространство работы для православных миссионеров в современном мире.
Беседовал Виталий Каплан