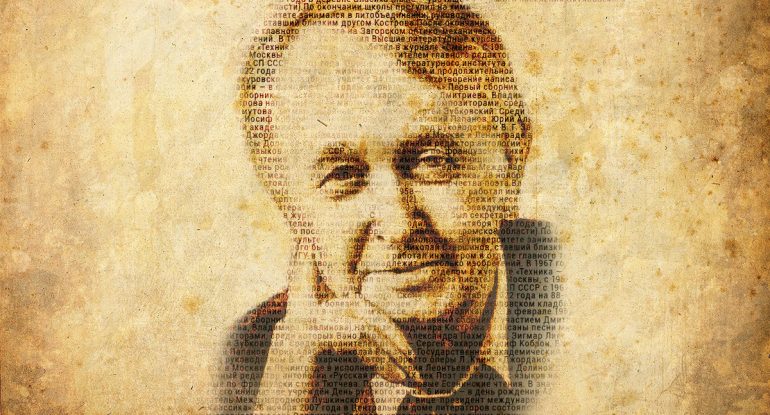Когда заходит речь о религиозных взглядах Пушкина, первым делом припоминают его кощунственные сочинения и кутежи. Но религиозные взгляды поэта росли и менялись вместе с ним. Мы не будем говорить, во что верил Александр Сергеевич. Просто прочтите, что он написал об этом сам. В подборке Тимофея Веронина, кандидата филологических наук, доцента ПСТГУ — пять стихотворений, которые транслируют глубину и непрерывность поисков великого поэта.

кандидат филологических наук, доцент ПСТГУ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.
1819
Пушкину 20 лет. Чуть больше года назад окончен Лицей, он поступил на службу в Коллегию иностранных дел и бросился в водоворот юношеского веселья, благо служба много времени не отнимала. «А я, повеса вечно праздный,/ Потомок негров безобразный…/ Я нравлюсь юной красоте/ Бесстыднымм бешенством желаний», — пишет он приятелю Юрьеву в это время. Но вот приходят драгоценные мгновения поэтического уединения, когда он заглядывает в глубь души и видит там потребность прикоснуться к подлинному, духовно значимому бытию. В один из таких моментов и родилось это стихотворение. В нем выразилось универсальное человеческое переживание. Ведь кому не приходилось хоть однажды ощущать, как наше подлинное «я» скрывается под какой-то темной и жесткой коркой внешней бравады и мнимого бесстыдства. Так тогда хочется содрать эту корку, чтобы пробиться к чистому, настоящему средоточию нашей личности, и только на этой глубине возможно обретение живой веры.
ВОСПОМИНАНИЕ
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
1828
Пушкин приближается к тридцатилетнему рубежу. За спиной у поэта ничем не ограниченная свобода первых лет юности, а потом — Южная ссылка, два года заточения в Михайловском, виной которого была пара строчек об атеизме в письме к приятелю. Много душевной боли и размышлений. И вот поэт подводит плачевный итог первого десятилетия своей самостоятельной жизни: «И горько жалуюсь, и горько слезы лью» — жалуюсь на то, что жизнь не соответствует какому-то светлому идеалу, который есть в душе каждого человека. И хочется преобразиться, но самому это не под силу, а той живительной духовной силы, которая может спасти человека от внутренних конфликтов, он не чувствует. Нет перед его взором и Того, Кто может простить и исцелить душу.
+ + +
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
1828
Написанные в день рождения, стихи эти о том, как человек отвергает дар жизни, совершает мысленное самоубийство. В них выражено то, что вытекает из основного смысла «Воспоминания». Если, оглядываясь на прошлое, испытываешь отвращение, если сам не в праве себя простить, а прощающего Бога ты не можешь увидеть, то жизнь становится не даром, а «напрасной и случайной» обязанностью, и власть Того, Кто дал тебе право жить, ощущается враждебной. Широко известен поэтический ответ митрополита Филарета на эти стихи. «Вспомнись мне, Забвенный мною,/ Просияй сквозь сумрак дум», — призывает святитель Филарет Пушкина, и поэту дорог был этот отклик. Нет, он не скомкал его в порыве негодования или презрения, а сберег, услышал и даже ответил стихами (хотя вполне мог этого не делать), вероятно потому, что внутренне жаждал того, о чем писал ему митрополит.
ЭЛЕГИЯ
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
1830
Пушкин подходит к решающим переменам в своей жизни — к браку. «Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью», — пишет он о своей женитьбе приятелю тех «безумных лет», воспоминание о которых продолжает тяготить его душу. Но нет прежнего отчаяния. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», — говорит поэт. Он вновь принимает дар жизни как осмысленный и неслучайный, где-то в глубине его личности забрезжила возможность осознания благого Смысла бытия, ведь «мыслить» — это и значит приближаться к этому Смыслу, но что, увы, невозможно без страдания. И есть надежда, что в конце концов «блеснет любовь». Что скрывается за этим словом? Новая влюбленность? Странно ждать такой мысли от жениха, который души не чает в своей будущей жене. Думаю, здесь выражена надежда на встречу с Любовью, которой создан мир и таинственно сопровождается на своем свободном пути личность каждого.
+ + +
Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам…
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.
1836
Написанные незадолго до смерти, эти четыре строки сконцентрированно выражают острую боль духовной борьбы, которую вел поэт всю сознательную жизнь. Стремление к «Сионским высотам» — это порыв к тому состоянию души, когда человеку становится возможно увидеть Невидимое, вступить в живую связь с Любовью и Смыслом бытия. Туда влечется поэт. Но не может забыть ни «безумных лет угасшее веселье», ни беззаконный рисунок «художника-варвара», ни «змеи сердечной угрызенья». Все это соединилось теперь в образе «алчного льва». И длится борьба. До пули на Черной речки, до сорока часов мучительного умирания, до последних слов: «Прошу за меня не мстить, я все простил».