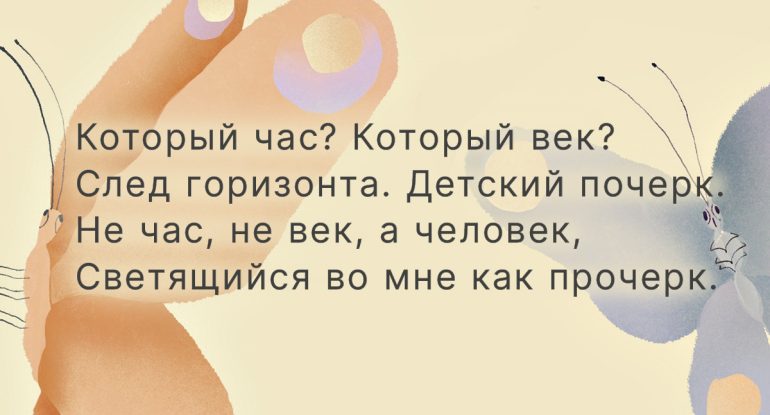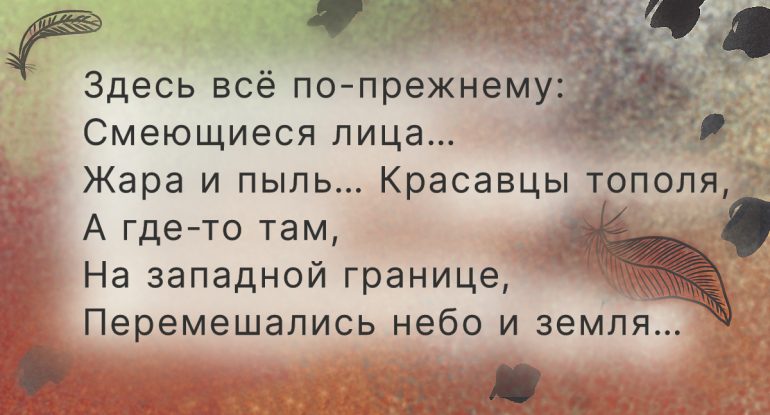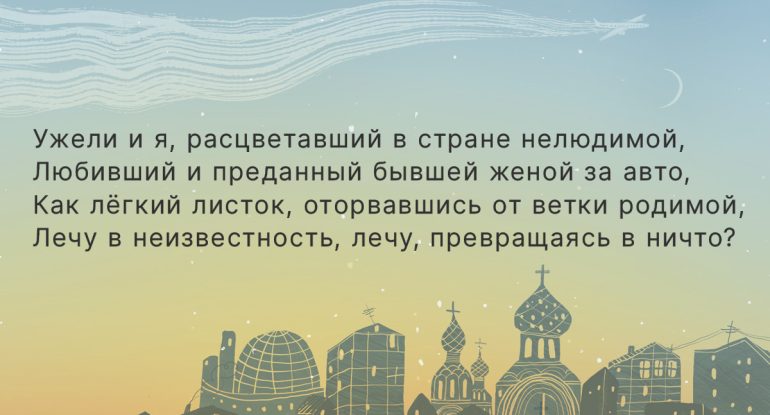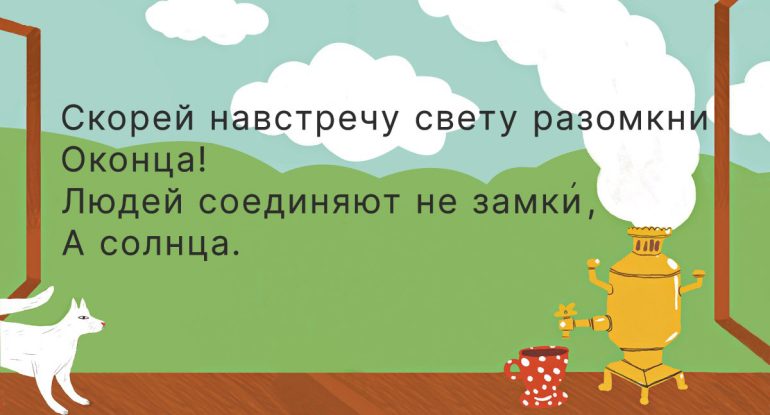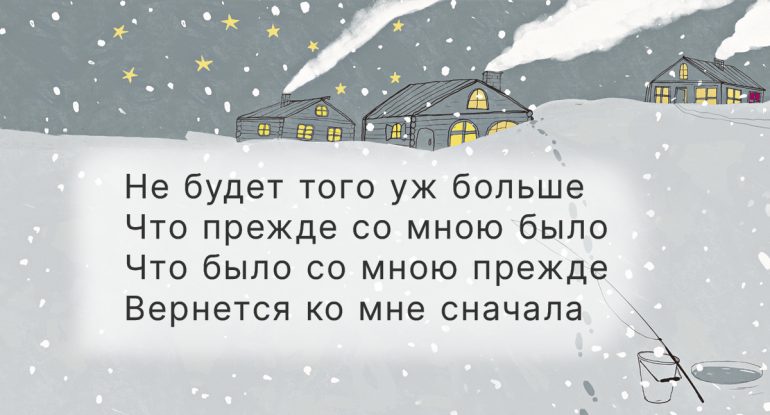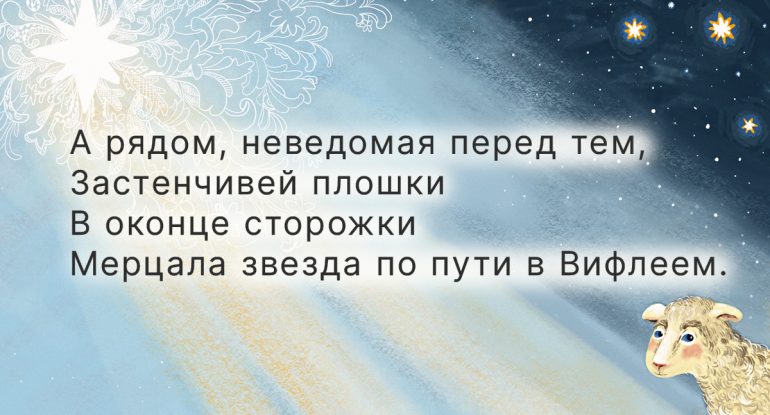В 1971 году, в посмертной судьбе Семёна Гудзенко (1922 - 1953) случилось событие: вышел сборник «Завещание мужества», где рядом со стихами поэта были напечатаны выдержки из его записных книжек и воспоминания близких ему людей.

Это были писатели разных поколений, однополчане и просто друзья.
Составила книгу мама поэта — Ольга Исаевна, которая после кончины сына разобрала его архив.
«Мы не от старости умрём, — от старых ран умрём...»
Весной 1922 года, выбирая ребенку имя, она, учительница, любящая театр и оперу, назвала мальчика по-итальянски — Сарио. Через двадцать лет, после успешных публикаций в журналах, её Сарик написал с фронта: «…не пугайся, если встретишь стихи за подписью “Семён Гудзенко”, — это я, так как Сарио не очень звучит в связи с Гудзенко». Литературное имя поэту подарил Илья Эренбург, которого как и Павла Антокольского, Гудзенко публично называл своим крёстным отцом.
В одном из самых известных стихотворений «Моё поколение» (1945) он подыскал удивительные слова: «Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты…» Поднимая сегодня в этой строке две прописных буквы, я невольно думаю о том, какими глазами он посмотрел бы сюда,
в наши дни, где такое сравнение, скорее всего, сочли бы неуместной патетикой или, в лучшем случае, «военной романтикой».
«Строфы» — совместный проект журнала «Фома» и «Новый мир» о творчестве поэтов XX-XXI веков. Автор проекта: Павел Крючков.
Он знал, о чем говорит. И ближе к концу стихотворения использовал тот же образ.
«…Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты».
Об очищении души Гудзенко заговорил и в свои предсмертные месяцы.
Строка, сложенная в больнице, вынесена нами в заглавие.
В «Завещании мужества» есть воспоминание Ивана Давыдова, военврача батальона, в котором служил Гудзенко. «Он протестовал против войны всем сердцем, всем своим существом. И потому, что протестовал, — воевал». На войне он определил свою судьбу и характер, и не мог ни жить, ни писать с другой меркой. Это была поэзия не «военной темы», но — героической жизни. Жизни, которую он хорошо понимал.
Его ещё успели за это выругать послевоенные публицисты.
Они ничего не поняли.

* * *
Я был пехотой в поле чистом,
в грязи окопной и в огне –
я стал армейским журналистом
в последний год на той войне.
В каких я странах побывал!
Считать – не сосчитать.
В каких я замках ночевал!
Мечтать вам и мечтать.
С каким весельем я служил!
Огонь был не огонь.
С какой свободой я дружил!
Ты памяти не тронь.
Но если снова воевать,
таков уже закон:
пускай меня пошлют опять
в стрелковый батальон.
Быть под началом у старшин
хотя бы треть пути,
потом могу я с тех вершин
в поэзию сойти.
Вена, 1945
* * *
Каждый танец на «бис» раза по три
был исполнен с весёлым огнем.
...Премирована рота на смотре
патефоном в чехле голубом.
И в казарме за час до отбоя,
полустёртой пластинкой шурша,
каждый день он играет такое,
от чего замирает душа.
Не забудет мое поколенье
тот простой и сердечный мотив –
эшелонной гитары томленье
и окопной гармони порыв.
А когда отстрадает гитара,
земляка приглашает земляк:
церемонно раскланявшись, пара
отрывает гвардейский гопак.
Начинается все по порядку:
на скобленом полу, топоча,
то бочком,
то волчком,
то вприсядку
ходят с присвистом два усача.
Дробный гул от подковок железных
как в слесарных стоит мастерских.
Жаль, в Москве у танцоров известных
не услышишь подковок таких.
...А в дверях,
чтобы рьяный дневальный
раньше срока солдат не прервал,
встал тихонько,
как зритель случайный,
моложавый седой генерал.
1951
[отрывок]
……………………………….
Жестка больничная кровать,
жестка и холодна.
А от нее рукой подать
до светлого окна,
там за полночь не спит жена,
там стук машинки, скрип пера.
Кончай работу, спать пора,
мой друг, моя помощница,
родная полуночница.
Из-за стола неслышно встала,
сняла халат, легла в постель.
А от неё за три квартала,
а не за тридевять земель,
я, как в окопе заметённом,
своей тревоги начеку,
привыкший к неутешным стонам,
к мерцающему ночнику,
лежу, прислушиваясь к вьюге,
глаза усталые смежив,
тяжелые раскинув руки,
еще не веря в то, что жив.
Но мне домой уйти нельзя,
трудна, длинна моя дорога,
меня бы увезли друзья,
их у меня на свете много,
но не под силу всем друзьям
меня отсюда взять до срока.
Жду. Выкарабкиваюсь сам,
от счастья, как от звезд, далёко.
Но приближается оно,
когда ко мне жена приходит,
в больничный садик дочь приводит,
стучит в больничное окно.
Её несчастье не сломило,
суровей сделало чуть-чуть.
Какая в ней таилась сила!
Мне легче с ней и этот путь.
Пусть кажешься со стороны ты
скупой на ласки, слезы, смех, –
любовь от глаз чужих укрыта,
и нежность тоже не для всех.
Но ты меня такою верой
в печальный одарила час,
что стал я мерить новой мерой
любовь и каждого из нас.
Ты облегчила мои муки,
всё вынести мне помогла.
Приблизила конец разлуки,
испепеляющей дотла.
Благословляю чистый, чудный,
душа, твой отблеск заревой,
мы чище стали в жизни трудной,
сильнее – в жизни горевой.
И все, что прожито с тобою,
все, что пришлось нам пережить,
не так-то просто гробовою
доской, родная, задушить.
Март-апрель 1952