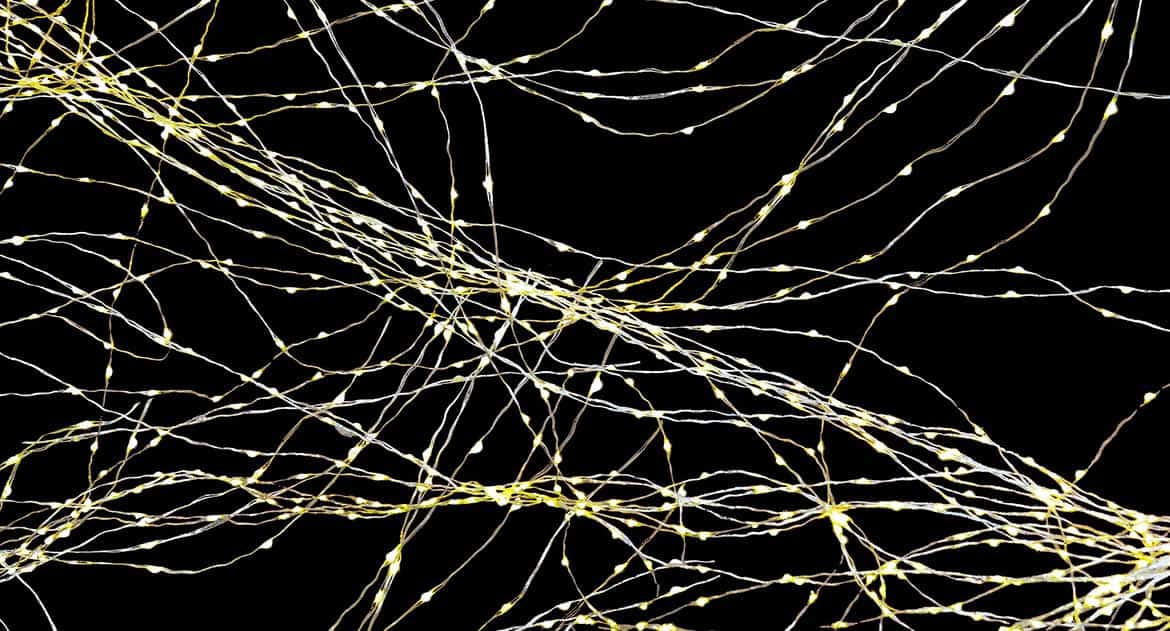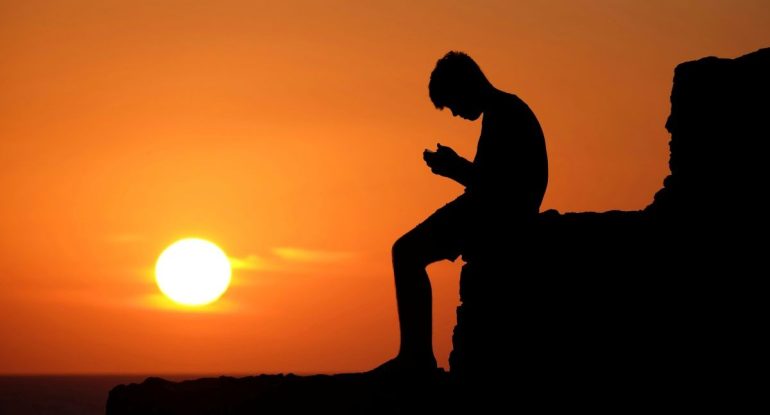Вопрос читателя:
Зачем молиться, если всё известно наперёд?
Юрий
Отвечает иерей Сергий Савенков:
Уважаемый Юрий,
Однажды вопрос, подобный вашему задали, святителю Николаю Сербскому (1881 – 1956 гг.), на что он ответил: «Это легче объяснить родителям, чем тебе, холостяку. Ведь и родители знают, что нужно детям, но ждут, пока ребенок попросит их. Знают родители, что прошение умягчает и облагораживает детское сердце, делает его смиренным, кротким, послушным, милостивым и благодарным. Видишь, сколько небесных искр высекает молитва из человеческого сердца!» (Миссионерские письма / Святитель Николай Сербский. - М. : Изд-во Моск. Подворья Свято-Троиц. Сергиевой лавры, 2005, письмо 2). Молитва — это кротчайший путь к тому, чтобы сделать себя человечным. Пока человек стесняется попросить помощи для себя, он и к другим будет относиться чересчур жёстко.
Молитва — это далеко не всегда просьба о чём-то. Прежде всего, это разговор. Мы действительно очень часто думаем о том, как нам что-от получить, но цель христианского благочестия в том, чтобы помочь человеку освободиться от тирании своих желаний. Чтобы в конечном итоге мы смогли встать на молитву с чувством чистой благодарности Творцу.
В христианской аскетике есть условное разделение духовной жизни на периоды. Первый — это состояние раба, когда человек исполняет нормы христианской морали и нравственности боясь наказания, из страха. Второй — состояние наёмника, когда человек исполняет всё необходимое, чтобы получить обещанную награду. И третий — состояние сына, когда человек исполняет всё из любви к Отцу, желая сделать Его счастливым. Каждый человек в процессе своего духовного совершенствования проживает эти этапы, а по мере их прохождения меняется и молитва. Мы призваны к тому, чтобы быть не рабами или слугами Бога, но Его друзьями: «Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает его господин; но вас Я назвал друзьями, потому что всё, что услышал от Отца Моего, Я поведал вам» (Ин.15:15), и только в общении с Ним человек обретает полноту своего бытия.
Мир вам и радость от Господа!
Читайте также:
Зачем молиться, если на все Воля Божия?
Зачем молиться, если Бог и так знает, что нам нужно?