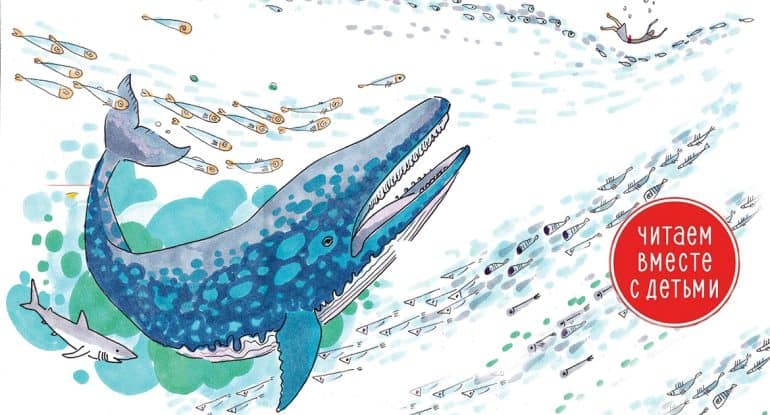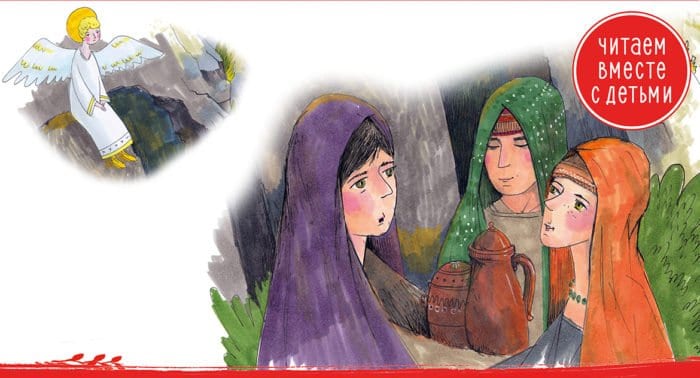Пейзаж нашей Долины своеобразен и велик. Он меняется из года в год. Мой отец помнит душистые яблоневые сады, гладкие светлые тропки, по которым можно было бегать босиком даже после дождя, и стопы не становились чёрными, а вода в круглых лужицах собиралась такая прозрачная, что если девчонки теряли колечко, то не расстраивались, зная – оно непременно само отыщется…
Помнит отец и холодные овраги с ручьями, коварно призывающими ребят на свои зыбкие берега, и говорит о жуткой смерти мальчика, которому всегда будет одиннадцать лет, потому что однажды – в шестьдесят первом году он не сумел выбраться из-под песчаного обвала...
Почти пятьдесят лет назад выросли на этой земле кирпичные дома – выше деревьев, выше высоковольтных линий.
Я, застав шум и движение новых дорог, ещё успела наиграться в прятки в кустах сирени (когда они цвели – пышно, сладко, то становились похожими на чёрносмородиновый мусс, который с нашего девятого этажа казалось вполне возможным подцепить на ложку). Мы с друзьями выдалбливали неглубокие круглые пещеры в сухой, но податливой серой земле на склоне оврага около школы, и жили там часами, веря в то, что эти долгие, пахнувшие ивами и летней пылью вечера будут вечными… Не успела я только налетаться на верёвочных качелях, которые старательно держали искривлённые ветрами старые деревья – всегда было мало…
Но потом всё ушло в наши воспоминания…
Что мы видим теперь? Что нам оставили, кроме новых вечеров, источающих гарь и вдыхающих выхлопы автомобильных труб?
Гаражи, где нашла прибежище стая агрессивных чёрных псов. Строительный рынок, занявший место старого оврага и поглотивший могилу моей Первой Собаки. Ворчливые шоссе, встречающиеся за подземным туннелем – одним из немногих признанных гениев городской красоты – ночью он неотразим в своём самолюбовании оранжево-белыми огнями. Серые лезвия высоковольток: из года в год под дождём они разучивают одну и ту же песню, и всё никак не могут запомнить её, а в солнечный день, издеваясь, режут по глазам стальными нитями. Недавно у нас появилась и стремительная транспортная развязка – подарок людям, которые любят слушать, как шуршат проносящиеся на запредельной скорости шины и наблюдать за теми, кто летит под откос. Третье кольцо дорог – оно не замечает седого дыма-бороды, идущего из трубы котельной красного кирпича, прозванной Камчаткой; не видит, как сбрасывают лишние перья московские птицы; или старики, рассыпавшие нечаянно мелочь у овощного ларька спешно собирают её, виновато улыбаясь, а продавец, широко распахивая дверцу, помогает искать монеты и незаметно кладёт в тощую хозяйственную брезентовую сумку пару апельсинов…
Долину с восьми сторон света окружают стройки. Кровавые огни поднебесных пеликанов не оставляют нас в покое: они вертят клювами даже в ночи, пугая луну и заблудившиеся самолёты.
Но и здесь, на утомлённой городской земле у жителей есть своя отрада. Если научиться игнорировать горький шум, если ночь выдалась особенно мягкой и лунной, а окно осталось приоткрытым, то до слуха временами доносится тихая, искренняя нота летящей за трамвайными линиями – по дну Зелёного Рва, электрички или упорное сопение поездов дальнего следования.
Но самое главное, у нас – жителей Долины – есть свой Хлеб. Его делают совсем близко, и мы вырастаем вместе с ним. Воздух пропитан ароматом муки, дрожжей и тёплых рук, замешивающих крутое тесто. Некоторые придышались и не всегда замечают его, но он есть: этот особенный запах, присущий только что испечённому хлебу.
Наша сторона домов – нечётная, запах тут гуще и сильнее, но он необыкновенно крылат, поэтому вся Долина покрыта и наполнена им.
При переменах времён года и при маневрах погоды хлебный дух ведёт себя по-разному. Когда мороз ударяет по щекам и смеётся, а собачий поводок натягивается в звенящую струну, хлеб пахнет так сильно, что кусок этого аромата можно взять и положить в карман зимней куртки, и он оттопыривается, а на языке появляется воспоминание о ржаной корочке.
Весной, конечно, сложнее: проснувшаяся земля требует пристального внимания исключительно к своей персоне. Клейкие тополиные листы и почки-прилипалы громко перебивают песню пекарей, но она всё равно прорывается и, гуляя во дворе в новых отрезах солнца, можно преспокойно позавтракать, глубоко вдыхая ноты свежего хлебного гимна.
Определить, что именно пекут в данный час на хлебозаводе, большого труда не составляет, особенно тем, кто вырос рядом с ним. Мы всегда безошибочно отличаем «Бородинский» от «Ржаных лепёшек», «Творожную ватрушку» от «Московской плюшки», а «Нарезной» от «Рижского». Тмин или ваниль, сдоба или творог – воздух настолько сыт, что ленится прятать запахи и смешивать их с другими.
Боковая улочка, примыкающая к Хлебозаводу – уникальна в своём роде. По одну её сторону тянется высокий забор из рыжего кирпича. За ним и рождается хлеб. Большие окна, верхушки деревьев, синяя покатая крыша – ровным счётом ничего особенного. По другую сторону улочки выстроились в ряд кирпичные дома, гаражи, какая-то невзрачная конторка и тополя. На первом этаже второго дома – старый магазин химических реактивов. Окна-арки, стёртые гранитные ступени, мраморная доска почёта. Тоже скучновато…
Но улица – особенная! Я не знаю, как ей это удаётся, но она всё время меняется. Она умеет быть такой, какой её в данный момент представить.
Франция, тридцатые годы – пожалуйста. Вам подойдёт Де’ЖульЖуль? Отлично! Смотрите и любуйтесь!
Москва, пятидесятые? Да, конечно – это именно она.
Берлин, конец девяностых? Вот и от Стены отлетел солидный кусок. Вас не ушибло?
Книжный город? Вы какую книгу читаете? Помните её запах и шорох (шёпот) страниц? Корешок Вашей книги похож на кору вон того молодого тополя. А улица? Ведь именно о ней шла речь в одной из глав, которые Вы читали вчера вечером или сегодня утром…
– Мама, мама! Смотри! – розовощёкий мальчик взад-вперёд раскачивался на санках, как на игрушечной лошадке, пытаясь приблизиться к краю снежной горки.
Женщина, смеясь в меховой воротник, незаметно помогла сыну, толкнув сани за спинку, и тот промчался свои положенные тридцать метров до самого школьного корта.
За ним летели уже другие санки с другим розовощёким мальчиком, и дети вереницей сновали вверх и вниз, а их счастливые родители пританцовывали на морозце и разговаривали друг с другом о пустяках. Из Дома за их спинами доносились вкусные запахи борща, оладий и пельменей, которые готовили к воскресному обеду тёщи, свекрови и бабушки.
Лидка Санаева жила на первом этаже. Это было очень удобно. Когда мы, разгорячённые беготнёй, подлетали к гостеприимному окну, то непременно получали от её бабушки Аглаи кружку с живительной водой, а потом ещё и масляных блинчиков на ладошку или тефтельки, зажатые между половинками хлебушка… Иногда нас ругали за слишком шумные игры «вековые старушки», как мы их называли, бессменно сидящие на параллельных лавочках рядом с единственным подъездом Дома.
Непререкаемым авторитетом во все школьные годы был для нас Сан Саныч – матёрый собачник, выходивший спортивным шагом дважды в сутки на выгул своих двух догов, двух «немцев» и одной молочно-дымчатой болонки, которую всегда держал на руках и отпускал по надобности только на небольшом участке за детской площадкой.
В подвалах собираться класса с седьмого начали. Диваны, тумбы, коврики с помоек натаскали. Водопровод там свой был, похожий на ржавый скрипичный ключ. Плакаты с портретами Цоя, Кинчева, Джеки Чана повесили на тёмные стены. На дверь – Терминатора с супероружием наперевес, чтобы охранял наше убежище от посторонних. Сидели вечерами, особенно зимой в самый холод, кассетами менялись, на гитарах играли, пели, учились пить из горла и курить в затяг. С уроков сбегали. Никто чужой не знал, в каком из домов находится наш подвал. Иногда мы меняли его адрес: приходилось съезжать с одного и обживать новый. В том Доме мы продержались около года… Конспирация потребовала уйти на другое место. Такое ощущение дома, которое пережили некоторые из нас, обитая в подвалах, не удавалось почувствовать ни у себя в тесных комнатушках общежитий, ни в коммунальных квартирах. Дай Бог, чтобы теперь это стало доступно. Хотя бы некоторым из нас. Наше поколение заслуживает тепла. Да, конечно, как и другие… Как и другие… Мотыльки – на свет, на тепло…
Загорать на крыше – это рай. Пусть – городской, но всё равно рай. Крыша удобная – плоская, совсем не страшная. Лето макушки печёт, солнце подлизывается нескромно, мы – подростки рабочего района – жмём на кнопку «play» и динамики демонически бледного магнитофона «Электроника-М 637» ставят под угрозу прочность чёрного рубероида. Босиком по нему бегать, визжать, от мальчишечьих жадных рук спасаясь, до края долетать и … ах, как вы-со-ко! – бежать, бежать, лететь дальше, ведь впереди так много должно случиться в первый раз!
Девчонки медленно завязки купальников на пальцах вертят, губы помадами мажут, стреляют из круглых пудрениц по мальчишкам солнечными зайчиками, просят минералки… Парни на спор к самому краю подходят, бицепсы будто невзначай демонстрируют, курят, не таясь, вниз на горячий асфальт сплёвывают… Солнце помнит этот Дом, там ещё у Томки тюбик с помадой под оторванный кусок рубероида закатился, так и не достали…
Через пять лет после окончания школы мы встретились в родном классе. Возгласы удивления, восторги, сдвинутые парты… Бумажные стаканчики не выдерживали и сминались, но ведь мы-то – не бумажные! К половине двенадцатого ночи остались самые стойкие – не более дюжины человек. Или, может – чёртовой дюжины. Верхнее электричество было давно погашено. Свечи на полу и на партах… Ласковые отсветы окон из домов напротив – этого было достаточно, чтобы на какой-то миг, который казался тогда осязаемым и вечным, чувствовать себя счастливыми.
Потом кое-кто целовался, сидя на последнем в классе подоконнике. Створки окна были распахнуты, мы ложились на спину и свешивались вниз, не боясь сорваться с четвёртого этажа, и кричали о своей любви, запрокидывали головы, и в наших глазах отражались звёзды и огни Дома по чётной стороне Долины, что стоял напротив школы...
В тот подвал, переоборудованный под склад, привезли сахар. Много-много мешков самого отменного качества, как уверял жителей хозяин. Но пока его продавать нельзя – нет разрешения от властей. Зато часть подвала стала теперь мебельным магазином. Мой отец ходил туда, смотрел. Шкафы, говорит, там хорошие – крепкие такие, а двери – раздвижные, как в вагоне метро. Кровати, стулья – всё бы поменять уже пора. Надо будет за несколько месяцев деньжат накопить, а перетаскать через дорогу – делов-то.
Разговаривал отец с хозяином. О шкафах и о сахаре. Суровый, говорит, мужик, ни разу не улыбнулся. Отец ему закурить предложил, а тот отказался, здоровье не позволяет, сказал…
Первыми увидели смерть Дома птицы … и игрушки.
Куклы на деревьях.
Глаза… они словно оживали недавно.
Банное полотенце возле фундамента дома по другую сторону шоссе.
Оно мокрое, жалкое, в комьях земли.
Женские колготки в ветвях.
В позе роженицы.
Тетрадные листы, прилипшие к жестяному карнизу.
Можно прочитать кусочек сочинения и узнать оценку: 4.
Господи! Господи! Не плачь так сильно!
Ты ведь забрал их всех к себе?
Правда, забрал?!
Скажи мне…
Ты ведь видел, как мы распахнули глаза, когда нас подбросил с постелей рёв гибнущего Дома. Ты слышал, как метались наши сердца в кромешном ужасе. Ты прости, что мы не молились, а просто кричали: «Гос-по-ди-и-и-и-и!»
Окна, которые распложены не по ходу взрывной волны, уцелели. Но в тёплом сентябре форточки почти у всех были открыты и гарь, едкая, горькая гарь проникла к нам в дома, разъела глаза и лёгкие, впиталась навечно в память, впечаталась в стены. Когда мы выскочили в ночном белье на балкон, Долину стремительно, неотвратимо окутывало страшное, клубящиеся дыхание дракона.
Дом пролетел сквозь расщелину между стоящих рядом других домов-утёсов. Наша школа, как кусок рафинада осела-подтаяла от ужаса. Окна-глаза у соседей лопнули, выбило взрывной волной балконные двери, посыпалась на головы штукатурка. Не все смогли её потом стряхнуть, многие так и остались седыми.
Павшие яблоки просились обратно. Но их никто не сможет вернуть. Никто. Теперь – только сгнить, потому что играть ими в футбол мальчишки не станут: по всей этой земле страшно ходить. Вдруг наступишь на чью-нибудь жизнь.
Имена в облаках… Кто-то просто в гостях был и ночевать остался, чтобы обратно поздно не возвращаться. День рождения Лидки Санаевой. Те, Кто Ушёл, говорят, что Димка Прибой – гроза нашего местечка и искусный краснодеревщик, в любви ей признался, а потом на гитаре свои песни играл – должно быть – до рассвета, до… Имена … облака или дым?
Старый человек сидел на остановке, за два квартала от своего дома, боясь вернуться в Хлебную долину. Он плакал, съёжившись, и на глазах становился всё больше похожим на птицу.
Возле шоссе, пересекающего Долину, росли и ширились толпы людей, специально приехавших на поминки Дома.
Пальцы с хлопком вскрыли очередную банку пива.
– Ну и чё: прям так и валялась голая? А копают-то чём? Дай фисташек, жмотина!
– Да на, жри! Оцепили…жалко…
–Я тут самый первый! Я всё знаю! Я до оцепления посмотреть успел: у меня глаза через кишки чуть не вышли!
– Милиция с собаками… что… они могут живых доставать?
– Мама, я боюсь! Мама!
– Дыму-то, дыму-то!
– А на войне так же было, дед, а дед? Почему ты молчишь, дед?
– Прямой эфир! Прямой эфир! Все лишние головы убрать из кадра! Живей, живей! Припудри мне лоб, Ларочка!
– А, говорят, один мужик прямо в окно соседнего дома влетел, в трусах семейных. Живой, вроде…
– Всем надо выйти из домов! Собрать вещи! Срочно! Почему людей не эвакуируют?! Уходите все!
– Давай ещё по пиву!
– Говорят, рвануло из подвала! Там взрывчатка у них в мешках была. Думали – сахар…
– Без паспортов не пускают, гады… А то б поближе пойти позырить……….
– О, о! Тяжёлая техника приехала! Прям сразу, что ли начнут? Значит, никого не осталось?
– Не загораживайте, не загораживайте мне! Уйдите уже отсюда! Это моё место!
– Что-то теперь со всеми нами станет?..
Запах хлеба исчез.
Она поёт. Правда. Она теперь только и может, что петь. Её голос высок и протяжен. Наверное, когда Бог потерял своего Сына, он тоже так пел.
Как объяснить ей, что их души живы? Я ведь не умею петь…
Все уступают ей дорогу. Шарахаются или отворачиваются, делая вид, что долго не могут раскурить сигарету. Но она не проходит мимо, она льнёт к людям, чтобы пропеть-спросить. С надеждой полудохлой волчицы, у которой забили на глазах щенят, заглядывает в глаза тем, кто отважился не бежать от неё.
«Сколько пробудет она здесь, пока судьба не скроет её окончательно за высокими заборами и зарешёченными окнами клиники?» - примерно так, наверное, думали все, кто слушал ноты матери, потерявшей своих детей.
Тех дней, в которые я познала это пение, мне хватит на всю жизнь. Даже через край пошло, но я не знаю, как сливать лишнее через край жизни.
– ГдемоидетиИгдемоидетиИ, А-а? А где-е мои де-ети, А-а?
Её всегда терпеливо выслушивали и гладили руки. Она позволяла отвести себя до ближайшей скамейки, где её и оставляли.
Только ко мне она не подходила, потому что, так уж получилось, мы встречались только в те минуты, когда я гуляла со своей немецкой овчаркой. К собаке бы она не подошла никогда. Да и я не была уверена, что моя немка выдержала бы этот взгляд. Однажды собака не смогла больше слушать песни человека-волчицы, (женщина стояла метрах в двадцати от нас и пела подросткам, которые жались кучкой и нервно посмеивались). Тогда моя собака натянулась в струну, запрокинула морду в звёздное небо и завыла из глубины веков.
Мы уже знали историю поющей матери. Поэтому я и не приблизилась тогда к ней, чтобы поцеловать её руки и прошептать на ухо молитву. Она бы, наверно, убила мою собаку, и я не сумела бы ей помешать…
В то утро рассвет был удивительно красив. Он, словно кисея, расшитая искусными руками драгоценным розовым жемчугом, покрыл Хлебную Долину. Накинул на деревья коралловые нити и по дорожкам расстелил розовые половички. Пути небесные…
Ещё оставалось время до раннего будильника. Самый крепкий и сладкий утренний сон качал на руках Хлебную долину.
Собака женщины, не знавшей ещё, что скоро она будет петь, не дожидаясь положенного утреннего часа, переполошила весь дом. Но заботливая мать и жена, желая дать возможность доспать пару сладких часов детям и мужу, сама встала, прошла по прохладному полу, накинула на ночную рубашку лёгкий плащ, надела туфли на босу ногу и вывела упирающегося лохматого нарушителя спокойствия из подъезда. Но он кидался обратно. Тогда женщина немного пожурила его: «Ну-ка, поросёнок! Сам перебудил всех, а теперь беспредельничаешь, пойдём, давай!» И силой отвела его в сторону. Она, вероятно, хотела ещё что-то сказать, но не успела. Её Дом вдруг стремительно ушёл вверх, словно гигантская ракета…
Силой взрывной волны её отшвырнуло на проезжую часть. Обугленные кирпичи посыпались со всех сторон, жидкое стекло капало дождём, горящие куски плоти падали совсем рядом… Но ничего этого женщина уже не видела. Она помнила только, что Валька – её младшенькая, снова раскидала одеяльца, и ручонка её беспомощно свисает с кроватки.
«Простудится ведь» – пронеслось в голове.
Как из Детского Мира, через Хлебную Долину добраться до Богатыря? Правильно: нужно полететь. На трамвае.
Начало шестидесятых… До Коломенского тянулись фруктовые сады, глубокие овраги и живые ещё деревеньки. В воздухе часто купался малиновый звон и колокола, казалось, отражались в небе длинными солнечными лучами. В затонах мальчишки подсаживали сачками плотву и даже карасей, что говорило о ловкости рук ловца и о том, что вода в те времена была чистая.
В тетрадях по чистописанию первоклашки, высунув языки, старательно выводили: «Миру – мир!» Старшие пацаны устраивали на школьном пыльном стадионе шумные схватки за старенький коричневый футбольный мяч, крепко схваченный суровыми нитками.
Самой страшной войной тогда была всё ещё недавняя Великая Отечественная, запечатлённая на обожженных ладонях отца моего отца, на одноногом туловище школьного сторожа, на лице соседа, который даже мусор выходил выносить при полном параде, надевая мундир с начищенными медными пуговицами, ровными рядами орденов, и – непременно – черные очки с круглыми непрозрачными стёклами. Тогда мальчишки дрались «стенка на стенку» до первой крови и кодекс чести был так же свят, как и память о предках, пусть даже – вымышленных, если человек был родом из Ниоткуда, как и настоящее нужное чувство Родины, крепкое понимание, чем ты держишься за эту землю, которая и дала тебе жизнь.
Потом время крутилось, словно пластинка, блестящая на солнце. Приходили новые люди, уходили старые. Появились другие дороги, другая музыка, кассетные магнитофоны сменили катушечные, мягкие тропки покрыл асфальт, деревеньки послушно сгинули под когтистой лапой экскаватора. Вековые деревья сгибались под напористыми шагами новых домов и уступали места тонким робким саженцам, которые к тому времени, когда я родилась и впервые посмотрела на них, стали уже вполне взрослыми деревьями со своим мировоззрением. Тополь, например, чихать хотел на слёзную аллергию людей, а яблоня-китайка бережно сохраняла свои миниатюрные яблочки для лютых морозов, зная, что прилетят зимой птицы на их огоньки. Сирень – в ней детвора в начале восьмидесятых взахлёб играла в прятки – казалась с высоты девятого этажа сладким муссом, который так легко подцепить на ложку…
А спустя восемнадцать лет, я узнаю, что деревья умеют кричать. А люди, иногда – нет. Разве что – петь…
Я увижу, как птицы, спокойно сидящие на проводах высокого напряжения, боятся пролетать над тем местом, где раньше стоял Дом. Что делает птица, если её во время полёта накрывает взрывная волна? Падает? Надо бы спросить у тех, кто воевал…
Не знаю, как бы мы жили, если бы Летающий Трамвай не вернулся.
Наверное, он и хлебный дух спасли от верного сумасшествия не одну душу.
Нам повезло: трамвай шёл прямо по закатному небу. Его огни на повороте в положенный срок мигали, ромбовидные «рожки» делали приветливый книксен, и задорное «звяк-звяк» долетало до каждого, кто вышел погулять перед сном по чётной стороне Хлебной Долины. Мост располагался таким счастливым образом, что через тонкую акварель деревьев создавалась стойкая иллюзия, будто трамвай летит по воздуху. Может, так и было на самом деле, кто знает? Тем более что Хлебная Долина находилась на этих путях между остановками «Детский Мир» и «Богатырь». А каким ещё образом добраться из детского мира до сказочного богатыря? По-моему, это – самый гуманный способ.
Но однажды мост запретили. И Трамвая не стало. Всё так совпало, как раз… Нам было плохо, очень плохо. Казалось, путь на небо закрыт.
Чины приезжали, говорили много и бестолково, обещали часовню строить.
Отремонтировали детские городки по чётной стороне Долины, балконы кое-где покрасили, собачью площадку обновили. А часовни – нет… Памятник стилизованный поставили, но туда и войти ведь нельзя, а душа тоскующая убежища просит.
Вы, наверное, подумали, что чины всё это нам построили. Нет, не они… Мы… Наши рабочие руки. А чины – те уехали, вернее – увезли их. И то правильно: нечего им нашу Хлебную Долину топтать!
А Дом лежал в овраге. Долго. Его даже не похоронили. Свалили навзничь, как попало, глазами во все стороны – смотри, Дом на жизнь, что мимо тебя проходит!
Мы ехали на работу, и оторопело взирали из автобуса на морщины Дома, на его раны, на разбитую челюсть. Разговоры в салоне вмиг стихали и люди думали о том, как же страшно бывает умереть во сне! Зачем кто-то молится об этом?
По горбам Дома лазали тёмные фигуры. Эти существа копошились в чреве поверженного исполина, жадно вынюхивая добычу. Их цепкие пальцы раздуло, должно быть, от редкой возможности почувствовать себя мародёрами. Мы ненавидели их, но стрелять по ним нельзя. И у нас всё равно не было оружия.
Годы нарастили новую траву на том месте, где жила Лидка Санаева и её добрая бабушка. Теперь сквозь Дом можно пройти, словно через призрак, только, говорят, призраки холодом ледяным овевают человека, а Дом наш – теплом. Даже запахи стряпни, стирки и медовых акварельных красок можно различить, если глаза прикрыть послушно… Голоса долетают до слуха, вокруг головы венком кружатся… Колокольчики? Посуда хрустально звенит… Шумит вода из-под крана… Дети весело плещутся в ванне… Заливистый лай… Канарейка поёт… Радио «Маяк» – время концерта по заявкам… Кот призывно мяукает… Смех… Десятки голосов дружно подхватили возглас: «Горько!»… Хлопнула входная дверь… «Спят усталые игрушки, книжки спят…»
Дом № нет.
Крутится, блестит на солнце быстрая музыкальная пластинка – Время.
Родились новые люди – забавные своей ангельской наготой. Младенцы любят смотреть на летние цветы, растущие по бордюрам пешеходных дорожек и на клумбах, которые дворники весело и от души поливают из шланга широкой водной струёй, где прыгает молодая радуга. Они любят долгий осенний дождь, потому что под него так сладко спится в надёжном куполе коляски. Любят ветер, потому что он первый принёс им весть: «Привет, новые жители Земли! Вы родились на Хлебной Долине!» Счастливо сопя, младенцы считают снежинки, на свой, конечно, младенческий лад, я не помню, как это делается, а то непременно бы вам рассказала.
Но больше всего наши новые малыши радуются, когда заслышат заливистое «звяк-звяк»! Тогда они улыбаются, даже во сне, ибо им одним известно, что многие-многие люди и по чётной, и по нечётной стороне Долины, живо представляют себе, как летит по небу вернувшийся Трамвай. И не беда, что нет больше остановки с чудным названием «Детский Мир», а есть: «Каширский Двор», но ведь «Богатырь» - то – на месте!
И остался наш Хлебозавод в соседстве со странной улочкой, в окружении цепко держащихся за землю деревьев, в облаке ароматного вкусного духа, теребящего носы голодной детворе, загулявшейся на просторах Долины. Кто-то подбежит к раскрытому окну, выпросит у матери несколько монет и – вприпрыжку – покупать булки с пылу с жару – на всех друзей.
Хлеб пекут – значит, жизнь продолжается.
Автор: Mio Grand.