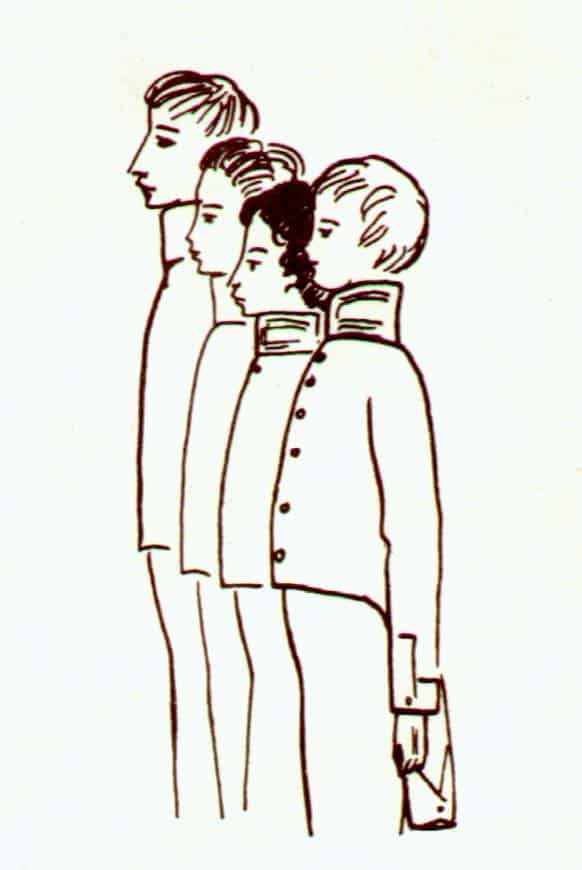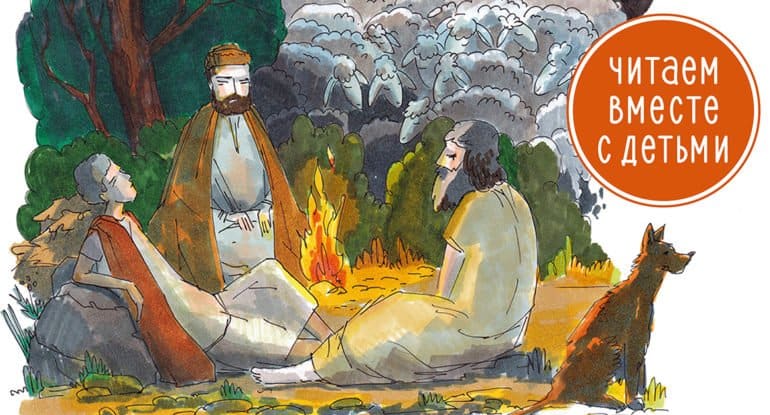В Царскосельском лицее висят на стене в рамочке «Общие правила поведения воспитанников». Интересно, что часть этих правил дожила до наших дней и входит в уставы многих гимназий и лицеев (даже в самоназвании которых видна явная преемственность). Но если вчитаться внимательнее, возникает странное впечатление. Пункты устава противоречат друг другу, противоречат и логически, и идеологически. В чем же причина? Попробуем разобраться.
Свобода или дух казармы
Часть этих правил напоминает и современные школьные нормы: «Воспитанники должны жить между собою мирно и дружелюбно», «Никто не должен обижать другого каким бы то ни было образом, словом или делом».
Но пункты противоречат друг другу. К примеру, пункт пятый гласит: «Позволяется воспитанникам давать пользоваться другому своими вещами». И тут же пункт одиннадцатый: «Не только не меняться никакими вещами, но и не ссужать, без ведома надзирателя, никого ничем, ни книгою, ни бумагою».
Большая часть пунктов выглядит слегка пугающе. Например:
«В двенадцать часов за обеденным столом и после стола в комнатах быть неотлучно со своим надзирателем; во время прогулок не отставать от дежурного надзирателя и не опережать его».
«В классах всегда садиться на том месте, которое назначено от учащего. С места не вставать и отнюдь не выходить из класса без дозволения господина учителя».
И это знаменитый Лицей, люди, про которых мы с детства помним:
«Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз»?
«Денег при себе никому из воспитанников не держать; а если случается, то отдавать их под сохранение господину надзирателю или смотрителю за столом».
«Никто не должен скрывать пороки своих товарищей, коль скоро от него начальство требует в том свидетельства...»
«Всякая грубость противо начальника не останется без наказания».
«Запрещается близко подходить к незнакомым посетителям и начинать с ними разговор».
«Воспитанники не должны иметь никаких особенных отношений со служителями».
Вкупе со спартанскими кельями все это производит впечатление казармы. Сразу возникает вопрос: неужели дотошное исполнение этих жестоких правил дало нам блестящее поколение выпускников-лицеистов: Пушкина и Кюхельбекера, Горчакова и Дельвига, Пущина и Корфа?
Как нарушался Устав
Есть известная фраза, что жестокость российских законов искупается небрежным их исполнением. Так же было и здесь. В реальности эти правила соблюдались не так уж ревностно. Вот взять, к примеру, самый безобидный пункт: «Запрещается воспитанникам давать друг другу прозвища». Но мы же знаем из Тынянова, что прозвища в Лицее были буквально у всех, включая учителей.
Действительно, правила соблюдались далеко не всегда. Записки Пушкина, его одноклассника Илличевского, а также прекрасная книга Марианны Яковлевны Басиной «В садах Лицея. На берегах Невы» говорят об этом весьма недвусмысленно.
К примеру, по поводу книг. В правилах поведения, пункт тринадцатый, ясно сказано: «Без позволения директора не читать никаких книг, кроме классных и тех, какие профессорами могут быть назначаемы».
Позвольте, а как же
«В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал…»
Или вот письмо Илличевского:
«Достигают ли нашего уединения вновь выходящие книги? спрашиваешь ты меня; можешь ли в этом сомневаться? (...) Мы стараемся иметь все журналы и впрямь получаем: Пантеон, Вестник Европы, Русской Вестник и пр. Так, мой друг, и мы также хотим наслаждаться светлым днем нашей литературы, удивляться цветущим гениям Жуковского, Батюшкова, Крылова, Гнедича (...) Не худо иногда вопрошать певцов иноземных (у них учились предки наши), беседовать с умами Расина, Вольтера, Делиля…».
То есть никакой реальной слежки за чтением лицеистов не было. Вся «цензура» ограничивалась одним эпизодом, о котором будет сказано дальше. Пушкин в своем стихотворении лукавит: конечно же, читал он (как и все прочие лицеисты) и Цицерона, а не только фривольные романы — ведь Цицерон входил в учебную программу.
Как, с христианских позиций, относиться к такой свободе чтения? Чего от нее было больше для души — пользы или вреда? Это вопрос, не имеющий однозначного ответа. Но факт остается фактом: лицеисты, наряду с книгами обязательной программы, читали, что хотели.
Как «роза» отменила запрет на стихи
В дополнение к разговору о литературе в Лицее. Изначально там ученикам было запрещено сочинение стихов — вернее, сочинять их можно было только в классах и только в качестве учебного задания. Потом, в 1815 году, запрет был отменен, и причина тому — гений Пушкина. Процитирую книгу М. Я. Басиной:
«Однажды, в конце урока словесности, профессор Кошанский сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами».
«Господа» призадумались. Лишь один только Пушкин вмиг сочинил и подал профессору четверостишие, которое всех восхитило.
Запрет на сочинительство был отменен».
Стихи, кстати, очень неплохие, давайте их еще раз перечитаем.
Где наша роза,
Друзья мои.
Увяла роза,
Дитя зари.
Не говори:
Так вянет младость!
Не говори:
Вот жизни радость!
Цветку скажи:
Прости, жалею!
И на лилею
Нам укажи.
Махнуться вкусняшками
Или вот — в столовой полагалось сперва «с благоговением слушать молитву», а потом «сидя за определенным столом, пить чай и кушать завтрак со всей благопристойностью и тихостью». Молитвы перед едой действительно читались, это соблюдалось строго. А вот сами трапезы проводились шумно и весело. По праздникам «те из лицеистов, у кого водились деньги (!), договаривались с дядькой Леонтием Кемерским, и он вместо казенного чая ставил для всех кофе или шоколад». По понедельникам вывешивалась «Программа кушаний», и около нее договаривались, как будут меняться порциями — я тебе бланманже, а ты мне пирог.
Кстати, к чести Лицея, надо сказать, что там, и только там во всей Российской империи, не было тогда телесных наказаний (куда там Итону, самой престижной английской частной школе, основанной в 1440 году — там пороли за провинности почти до самого конца XX века).
Зато было забавное поощрение: места за столом ближе к гувернеру, раздающему еду (они считались лучшими), занимали отличники по поведению и учебе. В классах «двоечники» также садились последними. Пушкин, кстати, в воспоминаниях часто шутил на эту тему, но на самом деле последним по поведению не был (были Брольо и Данзас). Хотя Александр Сергеевич тоже «плелся в хвосте». У него есть даже пара строчек того периода, посвященных этому вопросу:
Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.
Слова «Блажен муж, иже...» — это начало 1-го псалма. Здесь мы видим, насколько органично у Пушкина знание Псалтири сочеталось с чувством юмора и высоким качеством стиха.
Кто учил?
В столовой же директор объявлял новости. Его внимательно слушали — и не потому, что страшились. Первый директор, Василий Федорович Малиновский, ненавидел муштру, не кричал, не читал нотаций, и очень гордился тем, что в Лицее никого не секут. Он старался сделать так, чтобы, по собственному его выражению, «воспитывающие и воспитуемые составляли одно сословие», а педагоги стали воспитанникам друзьями. «У нас по крайней мере царствует с одной стороны свобода (а свобода дело золотое), — писал из Лицея своему приятелю Илличевский. — С начальниками обходимся без страха, шутим с ними, смеемся».
Самый первый биограф Пушкина, П. В. Анненков, писал о тогдашних учителях: «Можно сказать без всякого преувеличения, что все эти лица должны были считаться передовыми людьми эпохи на учебном поприще. Ни за ними, ни около них мы не видим, в 1811 году, ни одного русского имени, которое бы имело более прав на звание образцового преподавателя, чем эти, тогда еще молодые имена».
И действительно, почти весь педагогический состав был моложе тридцати лет.
Самым выдающимся и талантливым преподавателем (в том числе, по воспоминаниям Пушкина, да и остальных лицеистов, был Александр Петрович Куницын. Он преподавал логику и право. Был образован, умен и красноречив, не заискивал перед начальством и, кстати, оказался единственным, кто на торжественном открытии Лицея выдал речь «от себя». Причем речь, изобилующую словами «отечество», «народ», «граждане» и «общественная польза», в то время как остальные гости мероприятия в основном читали по бумажке про «благорастворенный воздух Царского села» ввиду императорского визита. Если говорить о его мировоззренческих и идеологических позициях, то Куницын был сторонником Руссо и Канта, он считал необходимым ограничивать всякую власть — не только государственную, но даже и родительскую, поскольку иначе она оборачивается тиранией и несправедливостью. Власть нужна только для обеспечения блага населения, а ради блага подданных и подчиненных. Эти свои идеи он, очевидно, внушал и ученикам, и это ими восторженно принималось.
Вспомним пушкинские строки:
Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена…
Другого любимого преподавателя звали Давид Иванович Будри. Секрет Полишинеля заключался в том, что Давид Иванович был никакой не Будри, а очень даже Марат, младший брат знаменитого «друга народа», Жана Поля Марата, имя которого приводило российскую знать в трепет. Судя по воспоминаниям, Пушкину очень нравилось, что учитель и не думал скрывать опасного родства, напротив, гордился и много хорошего рассказывал о революции и ее вождях.
В этом проявилось одно из противоречий, которые помогут нам разгадать загадку несостыковок лицейского устава: соприсутствие людей диаметрально противоположных взглядов, которые общались с лицеистами и каждый по-своему влияли на них. Рядом с Будри были и преподаватели, для который Французская революция означала лишь кровь, жестокость, гильотину и надругательство над христианскими святынями. Рядом с либералом Куницыным был, например, был жесткий консерватор Мартин Пилецкий, который буквально понимал пункты устава относительно запрета переписки и обмена бумагами между воспитанниками. Кстати, серия конфликтов между ним и лицеистами привела к бунту учеников, когда те предъявили ультиматум: или он, или они. И Пилецкий уехал в Петербург. Почему? О его мотивации мы можем лишь догадываться. Может, это было благородство («оставайтесь в Лицее, господа» — сказал он в ответ на мальчишеский ультиматум), а может, трезвое понимание, что в этом конфликте большинство учителей его не поддержит. Но и уехав в Петербург, он мог бы отомстить лицеистам, нажаловаться министру просвещения, однако не сделал этого. В дальнейшем он служил в полиции, где имел награды за службу. Вот такие разные люди находились в одно и то же время в одном и том же месте — и влияли на умы лицеистов.
Противоречия духовного воспитания
Может создаться впечатление, что Лицей был абсолютно светским островком в православной стране, что о религиозном воспитании учеников там не заботились. Особенно учитывая, что к тому времени в высших кругах общества безверие было в моде. Но, однако же, религиозное воспитание присутствовало — во всяком случае, на уровне внешних форм. Так, обязательными были утренние и вечерние молитвы в находившейся на территории Лицея Знаменской церкви. Кстати, окна комнаты Пушкина как раз на нее и выходили, и о главной тамошней святыне, чудотворной иконе Божией Матери «Знамение» поэт впоследствии писал в стихотворении 1830 года «В начале жизни школу помню я»:
Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров.
Обратим внимание: толковал превратно. То есть сам Пушкин, будучи уже зрелым человеком, который спустя несколько лет гениально переложит в стихах великопостную молитву святого Ефрема Сирина («Отцы-пустынники и жены непорочны»), трезво сознавал, что важнейшие духовные вещи прошли мимо него в лицейские времена.
В чем здесь парадокс? В том, что Закон Божий в Лицее вели лучшие духовники и священники того времени. Так, например, при Пушкине законоучителем был протоиерей Николай Музовский, духовник императора Александра I, замечательный проповедник. В 1816 году его сменил недолго прослуживший в Лицее отец Гавриил Полянский, а затем законоучителем стал известный священник Герасим Павский, церковный ученый, основатель российской библеистики. Кстати сказать, и первый директор гимназии, В. Ф. Малиновский, перевел с древнееврейского несколько книг Ветхого Завета.
Еще один уникальный факт: на выпускном экзамене по Закону Божиему в 1817 году присутствовал тогда еще архимандрит, а впоследствии митрополит Московский Филарет (Дроздов) — святой, прославленный Церковью, который много лет спустя вступит с Пушкиным в духовно-поэтическую полемику, откликнувшись своими стихами на «Дар напрасный, дар случайный...» Впервые же они увидели друг друга на этом экзамене.
Тем не менее, как писал известный литературовед и биограф Пушкина Г. И. Чулков, «Что касается батюшек-законоучителей, то они, по-видимому, не имели серьезного влияния на лицеистов». Почему? Это можно объяснить особенностями Синодального периода в истории нашей Церкви, можно вспомнить об особенностях подростковой психологии (подросткам свойственно отрицать ценности взрослых), можно открыть для себя простую истину о расцерковленности тогдашнего высшего света. Но самое главное — это результат воздействия на лицеистов очень разных людей, разных и в личностном плане, и в мировоззренческом.
Правила пишут люди
Как же так вышло, что лицейский Устав был настолько противоречив и почему не соответствовал реалиям тамошней жизни?
Разгадка в той борьбе идей, в которой Устав создавался, в столкновении мировоззрений, которое предопределит и дальнейшую судьбу выпускников Лицея.
Правила для лицеистов писал не один человек, а четверо, имевшие совершенно разные взгляды. Изначальная концепция принадлежала Михаилу Михайловичу Сперанскому. На уровне идеи это была «особая школа для мальчиков из разных сословий» — и такая подача очень не понравилась императрице Марии Федоровне, не желавшей воспитывать своих детей вместе с детьми купцов.
Другим противником идеи был уже упоминавшийся министр просвещения Разумовский, который, во-первых, ненавидел Сперанского со всеми его идеями, а, во-вторых, дружил с посланником низложенного сардинского короля Жозефом Де Местром, который в то время проживал в Петербурге. Жозеф отметился высказываниями о том, что неизвестно, созданы ли русские для науки, и вообще «наука в России будет не только бесполезна, но даже опасна для государства». Вот ему и отдали на рассмотрение проект устава Лицея.
О мнении Де Местра (негативном, конечно) Разумовский доложил царю, который, кстати, тоже не планировал обучать в Лицее «молодых людей разных сословий». Но сама идея «особенной школы» ему понравилась. Александр подумывал отдать туда младших братьев. Поэтому проект Устава пошел дальше, впитав оба подхода — и Сперанского с «самостоятельностью мышления», и Де Местра с «безоговорочным послушанием».
Следующим человеком, через чьи руки проходили бумаги перед воплощением в жизнь, стал Иван Иванович Мартынов, директор департамента народного просвещения (не путать с министерством), человек не чуждый гуманистической педагогики, который постарался вернуть в проект максимум заложенного Сперанским. Окончательные же заслуги по созданию документа, регламентирующего лицейскую жизнь, придворные льстецы приписали в итоге Александру I и назвали Лицей «собственным творением императора».
Вот это коллективное творчество и висит сейчас в музее на почетном месте, как портрет борьбы идей. Борьбы, сформировавший мировоззрение лицеистов и предопределившей всю их дальнейшую жизнь. Тот же Пушкин пройдет через колоссальную перемену взглядов, через тяжелейшие жизненные драмы и погибнет на дуэли совсем еще нестарым человеком. Ту же противоречивость можно проследить и в судьбе других лицеистов.
Опыт Лицея не может быть принят с наивным восторгом, это вовсе не образец идеальной педагогики. Само русское общество той поры было по-своему расколото, раскол этот повлиял и на формирование лицеистов. Эти дети, многие из которых были гениальными, подверглись впоследствии тяжелейшим испытаниям на разрыв — в том числе и в духовных поисках.
В статье во множестве использованы материалы из книги Марианны Яковлевны Басиной «В садах Лицея. На берегах Невы»