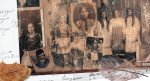Мы попросили наших читателей рассказать историю из жизни их предков, которая сильно на них повлияла и которую они считают нужным обязательно рассказать своим детям.
Юлия Меньшова, актриса, телеведущая
Так вот в чем дело!
 Моей бабушке было 3 года, когда умерла ее мама, оставив почти сиротами троих маленьких детей. Прадед именно ради детей вскоре женился снова, но неудачно: женщина эта была недобрая, и стала детям в полной мере — мачехой. И голодали они часто, и ходили в обносках. Уже в 16 лет бабушка почти вынужденно ушла из дома и стала пробиваться в жизни сама.
Моей бабушке было 3 года, когда умерла ее мама, оставив почти сиротами троих маленьких детей. Прадед именно ради детей вскоре женился снова, но неудачно: женщина эта была недобрая, и стала детям в полной мере — мачехой. И голодали они часто, и ходили в обносках. Уже в 16 лет бабушка почти вынужденно ушла из дома и стала пробиваться в жизни сама.
Мне кажется, любые наши слова значат гораздо меньше, чем те модели поведения, которые мы демонстрируем и таким образом «внушаем» своим детям. Непривычка к ласке — естественной материнской ласке и нежности, которая должна быть у каждого ребенка, — раннее осознание, что не на кого положиться, кроме как на саму себя — вот что бабушка извлекла из своего жизненного опыта и отчасти передала своей дочери, моей маме.
А мама неизбежно — мне.
Знать линию судьбы своих предков не только интересно, но крайне важно еще и потому, что однажды ты можешь понять, почему те или иные, возможно, болезненные, искаженные, травмированные модели поведения продолжаются сейчас в тебе самом, а ты, даже не желая того, передаешь их своим детям. И осознав, сможешь изменить их.
Несколько лет назад мы, благодаря одному телепроекту, узнали подробности нашей родословной по маминой линии, и они в каком-то смысле потрясли всю нашу семью.
То, что мой прадед, Николай Алентов, был земским врачом в Великом Устюге (сегодня в краеведческом музее ему даже посвящен небольшой стенд), всем нам было хорошо известно. Он заведовал городской поликлиникой, благодаря его стараниям в городе открылась лечебница для страдающих болезнями нервной системы. И когда он умер, его хоронил весь город, потому что в прежние времена земский врач был почти членом каждой семьи, в которой он бывал.
Но выяснилось, что до прадеда-врача нам предшествуют семь поколений священников! Мы, конечно, знали, что бабушка была глубоко верующим человеком, но относили этот факт к нормам воспитания «прежних времен». Бабушка не афишировала своей веры, но была не формальна в самой сути: хотя в доме никогда не произносилось слово Бог и, конечно, никто в глаза не видел Библию, воспитывала она маму в строгой морали заповедей. Именно она еще в советские годы настояла на том, чтобы мы с мамой обязательно покрестились. Сделали мы это в большой тайне, в маленьком храме города Брянска. И куда бы я, маленькая, ни выходила из дома, я всегда знала, что бабушка стоит у порога и тихонько крестит меня…
Но настолько близкой связи с Церковью мы никак не ожидали! Семь поколений мужчин Алентовых были священнослужителями, а родной брат прадеда, Виталий Алентов, даже в советское время не оставил своего служения и был репрессирован, как и многие. Мы узнали, что со стороны Церкви даже было предложение о его канонизации.
И вот когда нам стало известно об этих семи поколениях, я вдруг поняла необъяснимое раньше для меня чувство… внутренней защиты. Ну, например, почему по юности лет я не попадала в какие-то ситуации, в которые, в общем-то, могла бы попасть. Почему они обходили меня стороной. Или почему дурных людей мне встречалось в жизни совсем немного. Эта уверенность в защите по молитвам предков, конечно, абсолютно недоказуема, но для меня лично в тот момент выстроился ответ на многие вопросы, и я себе сказала: «Ага, так вот в чем дело!»
Лавров Владимир Михайлович, главный научный сотрудник Института российской истории РАН
Про чекистов и фашистов

Один из дальних моих предков — Нестор Максимович Амбодик, личный лекарь императрицы Екатерины II, получивший звание «отца русского акушерства». А прадед Александр Николаевич Лавров сначала был преподавателем реального училища в Баку, а затем уехал в Армавир и создал там одну из лучших гимназий в России.
У прадеда было шестеро детей, и для меня важны истории из жизни его сыновей, братьев моей бабушки. Сын Константин стал крупным медиком, доктором медицинских наук, во время войны был исполняющим обязанности директора Медицинского института в Ростове-на-Дону. Принципиально оставался беспартийным и просто хотел заниматься наукой, быть хорошим медиком. Так вышло, что он спас свой институт от репрессий. Когда один из сотрудников института был арестован, Константин Александрович поехал на Лубянку к следователю НКВД и лично поручился за невиновность арестованного. Следователь поверил и повлиял на освобождение. А самое главное — не потянулась цепочка арестов, хотя вполне могла бы.
Два других брата, Владимир и Михаил, были в рядах Добровольческой белой армии. Через Африку добрались до Франции. Михаил стал директором завода «Рено». Во время немецкой оккупации помог не погибнуть своим подчиненным, которых немцы подозревали в участии в сопротивлении и собирались отправить на работы в Германию. Нашел список с их фамилиями и уничтожил. Немецкий генерал докопался до этого, вызвал Михаила к себе и... сжег документы, которые свидетельствовали о его вине.
Владимир и Михаил хотели вернуться в Россию, писали об этом своим родным, но вот что ответила им сестра, моя будущая бабушка: «Обязательно приезжайте, у нас все хорошо, вам будет так же хорошо, как...» — и назвала ряд знакомых им людей, которые умерли еще до революции. Братья всё поняли и не вернулись.
Когда узнаешь об этом, понимаешь, что нельзя мерить всех одним мерилом, в том числе и чекистов, и немцев, которых мы привыкли видеть исключительно в отрицательном свете. А еще радуешься, что были в роду предки, которые помогали людям, даже подвергая себя смертельной опасности.
Борис Любимов, ректор Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина
Порви или оставь дома
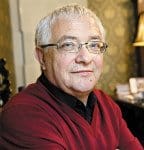 Для меня важны три случая, связанные с моим отцом. Первый произошел в самом раннем детстве, когда я еще был дошкольником. Мы жили достаточно скудно, и когда отец купил нам с сестрой по небольшому блокноту и тоненькому карандашу, это было большим событием. Папа вручил мне подарок и просил не рассказывать сестре, хотел сделать сюрприз. Но я не смог удержать эмоций, и, когда вернулась сестра, тут же все рассказал. Отец пришел в ярость оттого, что я не сдержал слово. Вспылил. Поставил меня в угол, разорвал и разломал мой подарок. И, что самое страшное, куда-то ушел. Я стоял в неведении около часа. А затем папа вернулся и… принес мне точно такой же блокнот и карандашик. Это было больше и глубже, чем «прости».
Для меня важны три случая, связанные с моим отцом. Первый произошел в самом раннем детстве, когда я еще был дошкольником. Мы жили достаточно скудно, и когда отец купил нам с сестрой по небольшому блокноту и тоненькому карандашу, это было большим событием. Папа вручил мне подарок и просил не рассказывать сестре, хотел сделать сюрприз. Но я не смог удержать эмоций, и, когда вернулась сестра, тут же все рассказал. Отец пришел в ярость оттого, что я не сдержал слово. Вспылил. Поставил меня в угол, разорвал и разломал мой подарок. И, что самое страшное, куда-то ушел. Я стоял в неведении около часа. А затем папа вернулся и… принес мне точно такой же блокнот и карандашик. Это было больше и глубже, чем «прости».
Вторая история связана с моим уходом в армию. Видимо, отцу непросто было сказать слова напутствия и благословения, поэтому он написал мне письмо и передал его мне в руки. Пока я ехал на Байконур, я постоянно вспоминал папино письмо — в котором было столько любви и заботы обо мне, столько боли за меня — и просто знал, что ничего плохого со мной не случится. В конце письма отец сделал приписку: «Или порви, или оставь дома». Естественно, я не смог порвать письмо — и до сих пор храню и берегу его как семейную реликвию.
О третьей истории я все чаще думаю в последнее время, потому что и сам приближаюсь к возрасту, в котором уходил отец. Он тяжело заболел, и было ясно, что жить ему осталось недолго. Я постоянно звонил ему, навещал. Но почему-то получалось так, что не я утешал его, а он меня, и в его словах было столько нежности и беспокойства не о себе, уходящем, а о нас, остающихся, и в частности обо мне! Хотя эти два месяца были довольно мучительными для него, его отношение к окружающим потрясало. С тех пор я постоянно вспоминаю те слова, которые он говорил мне в последние два месяца своей жизни.
Елена Пастернак, филолог, вдова Евгения Борисовича Пастернака
Живые письма
 Мы с мужем всю жизнь вели работу над изданием книг его отца, над архивными документами, биографией. Это стало основным нашим делом — и конечно, в небольшом тексте не выскажешь, как велико для меня чувство родства с Борисом Пастернаком.
Мы с мужем всю жизнь вели работу над изданием книг его отца, над архивными документами, биографией. Это стало основным нашим делом — и конечно, в небольшом тексте не выскажешь, как велико для меня чувство родства с Борисом Пастернаком.
Но сейчас мне хочется сказать о предках своих родителей. Мой дедушка, знаменитый философ Густав Шпет, был расстрелян в Томске 16 ноября 1937 г., когда мне едва минул год, а мы до пятидесятых годов ждали его возвращения. Так что с самого детства я сознавала, как важна для нас память о предках.
Он также был теоретиком искусства, занимался театром, дружил со Станиславским и актерами МХАТа. Его жена, моя бабушка, Мария Александровна Крестовская была известной актрисой, и мама тоже всю жизнь занималась театром, а затем и замуж вышла за актера. В детстве мы с братом постоянно играли в театр, ставили спектакли и, конечно, хотели связать с этим свою жизнь. Но мама сказала, что актером нужно быть, только если ты очень хороший и талантливый актер. А она-то знала, что такое настоящее актерское ремесло, не только из своего опыта, но и из опыта бабушки и многих знакомых ей и её отцу великих актёров.
Незадолго до смерти брат передал мне мамин архив, который у него хранился. Я увидела огромное количество писем, которые мама и папа писали друг другу, находясь на гастролях и в командировках. Увидела, сколько в этих письмах заботы и любви. Прочла дневники, которые мама писала в разное время: сначала это были переживания и чувства, а потом уже более насыщенные фактами дневниковые записи. Сохранились и бабушкины письма конца XIX века и даже прабабушкин институтский альбом середины XIX века. Прабабушка окончила Елизаветинский институт, и все приятельницы, подруги, которые там учились, писали в этот альбом разные напутствия с пожеланием будущих встреч или выражали огорчения в связи с предстоящей разлукой.
Я теперь глубоко погрузилась в историю своей семьи, которая вновь ожила перед моими глазами, и мне захотелось сделать все возможное, чтобы эти архивные записи жили и дальше... И вот я записываю, роюсь в бумагах и документах, хожу в театральный архив Бахрушина. На старости лет, когда мне, возможно, немного осталось, хочется успеть что-то сделать и для их памяти.
Елена Зелинская, вице-президент общероссийской общественной организации «МедиаСоюз»
Золотой якорь
Оглядываясь назад, уже взрослым человеком мысленно окидывая взглядом жизнь моих родителей — дай Бог им здоровья! — я не вижу подвигов, в жизни обычной семьи их и не бывает. Но вижу их постоянное, незаметное, светящееся в каждой мелочи самопожертвование. Вижу их упорное желание создать и сохранить большую семью. Видно, это голодное военное блокадное детство, опыт страшных потерь, раннее у обоих сиротство — все это вызывало невероятную преданность семье, друг другу, детям. Тогда мы с братом, наверное, принимали все как должное. Долгие годы я была уверена, что мама не любит куриные ножки и поэтому всегда норовит положить их в тарелку детям, себе же оставляя вкусную, как она утверждала, куриную шейку. Отец служил на флоте. Переезды. Съемные квартиры с УДОСовской мебелью в маленьких военных гарнизонах. Деньги от зарплаты до зарплаты. Очереди за продуктами. Китовое мясо.
Отец уходил в плавание надолго. Иногда на полгода. Появляясь в доме, он снимал фуражку, китель и доставал из портфеля на длинном ремне плитки шоколада.
Огромные, в белой обертке с золотым якорем, они лежали на столе стопкой, сверкая пред нами неземной роскошью. Нам позволяли брать их за хорошее поведение, по праздникам, а иногда и так, для настроения.
Только потом, спустя много лет, я догадалась, что эти плитки выдавали подводникам в пайке, к сухарям и консервам, во время шестимесячного пребывания под водой. А он не съедал, прятал в свой портфель и привозил нам.Умирать буду — не забуду. Золотой якорь.
Юлия Шутова, редактор веб-портала «Самый Восточный» Хабаровской епархии Русской Православной Церкви.
Столетняя икона
 Мужа моей прабабушки Евгении Кащук расстреляли по лаконичной формулировке: «Враг народа». По ложному обвинению. Оставили семью без кормильца, с клеймом отверженных.
Мужа моей прабабушки Евгении Кащук расстреляли по лаконичной формулировке: «Враг народа». По ложному обвинению. Оставили семью без кормильца, с клеймом отверженных.
Молодой женщине пришлось перебраться в село в Луганской области. Она успевала все: и вести большое хозяйство, и работать, и поднимать детей, и бесконечно читать книги, и молиться.
Ближайшая школа располагалась в шести километрах от села, у дочек — Тамары и Каземиры — одна пара обуви на двоих, поэтому в школу они ходили посменно. А когда дороги от ливней совсем исчезали, матери приходилось носить их в школу на собственных плечах: «Учиться нужно обязательно!».
Свою прабабушку я видела всего несколько раз, но именно благодаря ей я впервые увидела икону. Образ Спасителя, написанный в «деревенском стиле» сельским живописцем, — благословение, которое бабушка передала моей маме, когда та уезжала жить на Дальний Восток. На Пасху этот образ, бережно обернутый рушником, всегда венчал праздничный стол, а в минуты печали я часто смотрела на него, еще не зная слова молитв, но чувствуя, что меня слышат…
Эта столетняя деревянная икона и сейчас со мной, как и память о прабабушке, стойкой и сильной женщине, вырастившей двух дочерей, оставшейся в вере в годы атеистического строя, всегда державшей спину прямо, склоняя ее только перед образами на молитве.
Елена Фетисова, литературный редактор газеты «Рязань православная»
Маленькая особенность
 В детстве мы с сестрой часто гостили у бабушки, вместе с которой жил тогда и папин младший брат — мой родной дядя и крестный. Помню, что дядю отличал ряд удивительных особенностей.
В детстве мы с сестрой часто гостили у бабушки, вместе с которой жил тогда и папин младший брат — мой родной дядя и крестный. Помню, что дядю отличал ряд удивительных особенностей.
Во-первых, дядя был силач — запросто мог двумя пальцами выполнять работу клещей, орехокола и едва ли не любого другого инструмента. Комната его была полна разной формы эспандеров и гирь. А еще в ней было много вымпелов с портретами Высоцкого, кубики Рубика и техника всех мастей: дядя был «скорой помощью» для сломанных кассетных магнитофонов, телефонов, телевизоров и прочих сложных устройств, которые несли к нему соседи и друзья.
Еще одной особенностью дяди была его манера говорить. Я замечала, что отдельные слова он произносил как бы с улыбкой и небольшой паузой. Впрочем, в детстве меня это интересовало меньше, чем гантели и умение возвращать к жизни поломанную технику...
Только спустя годы я узнала, что в детстве дяде диагностировали ДЦП. Гарантировали необучаемость, неумение говорить, обещали безнадежную инвалидность, возможно — почти полную обездвиженность. А бабушка была педагогом дошкольного образования. Она делала с младшим сыном гимнастику, обращалась к коллегам-логопедам и медработникам в детском саду... Никаких техник реабилитации тогда нельзя было найти в Интернете. Но бабушке удалось сделать так, что «безнадежный» ребенок удивил врачей, а потом стал обычным взрослым дядей. С образованием и постоянной работой. Разве что необычно сильным.
Бабушка открыла мне этот секрет, когда объясняла, как важно заниматься ребенком в раннем возрасте, и когда у моего сына обнаружились небольшие неврологические проблемы, вскоре благополучно разрешившиеся. Ее знания мне очень помогли, а эту историю хочется снова и снова рассказывать мамам, будущим и настоящим.
Тарсеева Алиса, студентка Литературного института им. А. М. Горького
Четки бабушки Груши
 Моя прабабушка Агриппина Николаевна осталась вдовой в 25 лет. Шла Великая Отечественная война, муж пропал без вести на фронте, и молодой вдове ничего не оставалось, как спрятать русую косу под черный платок и мужественно в одиночку воспитывать троих сыновей — Витю, Гену и Толю.
Моя прабабушка Агриппина Николаевна осталась вдовой в 25 лет. Шла Великая Отечественная война, муж пропал без вести на фронте, и молодой вдове ничего не оставалось, как спрятать русую косу под черный платок и мужественно в одиночку воспитывать троих сыновей — Витю, Гену и Толю.
Воспитывала строго, не баловала. Мальчишки помогали матери по хозяйству — вместе с ней держали пасеку, разводили скот. Замуж бабушка Груша больше не вышла, а стала вести монашеский образ жизни в миру. Каждую ночь клала земные поклоны за детей. Огрубевшими пальцами перебирала четки, перечисляя их имена.
Через несколько лет выросшие сыновья разъехались по разным городам России. Агриппина жила с сыном Виктором и внуком Сашей. По ночам молилась на коленях в своей комнате, а 18-летний Саша стоял у двери и внимательно наблюдал за ней, пытаясь разобрать непонятные слова. Через 20 лет Саша стал священником и отцом большого семейства.
Когда отец Александр пришел соборовать тяжело болевшую бабушку, она взяла внука за руку: «Пока четвертого не родите, не умру». И действительно, бабушка Груша умерла, когда родился четвертый ребенок, мой брат Иоанн. А за ним появились на свет еще трое детей. Ее правнук Анатолий закончил Духовную семинарию, и теперь готовится к рукоположению.
Я до сих пор люблю рассматривать черно-белую фотографию молодой прабабушки с ее строгим и мудрым взглядом, ее черный потертый молитвослов с пожелтевшими страницами, перебирать плетеные четки на сто узлов и про себя повторять: «Спасибо за твои молитвы, бабушка».
Денис Ахалашвили, ответственный редактор издательства Свято-Пафнутьева монастыря (г. Боровск, Калужская область)
Тепло любимых рук
 У меня есть свитер из серой овечьей шерсти: ему уже очень много лет, но каждую зиму я его почти не снимаю. Везде: на работе, на встрече с друзьями, на ужине при свечах и на круглом столе у губернатора – свитер выглядит стильно и уместно. Но в мире модных вещей он стоит дороже любого бренда. В нем хранится тепло рук моих любимых бабушек – грузинской бабушки Тамары и русской бабушки Кати. Бабушка Тамара спряла пряжу, уложила в посылку и отправила в Россию бабушке Кате, которая и связала свитер.
У меня есть свитер из серой овечьей шерсти: ему уже очень много лет, но каждую зиму я его почти не снимаю. Везде: на работе, на встрече с друзьями, на ужине при свечах и на круглом столе у губернатора – свитер выглядит стильно и уместно. Но в мире модных вещей он стоит дороже любого бренда. В нем хранится тепло рук моих любимых бабушек – грузинской бабушки Тамары и русской бабушки Кати. Бабушка Тамара спряла пряжу, уложила в посылку и отправила в Россию бабушке Кате, которая и связала свитер.
Как же они меня любили – мои бабушки! Для бабушки Тамары я был любимым первенцем, которому они с дедом завещали свой большой и уютный дом с двором, увитым виноградными лозами, подвалами, заставленными темными бочками с вином, увешанными связками красного перца, базилика и чучхелы, с рядами полок с соленьями, сулугуни, аджикой, вареньем из грецких орехов и лепестков роз, и большой террасой, открывающей виды на сады и горы.
Я не знаю, во сколько бабушка вставала, но когда все остальные просыпались, стол со свежеприготовленной едой уже был накрыт. И ложилась она позже всех. Никогда не жаловалась, всем была довольна и, сколько себя помню, всегда работала. Бабушка ни слова не знала по-русски, а я по-грузински, но это нисколько не мешало нам общаться. Она усаживала меня напротив, смотрела, гладила по голове и приговаривала: «Руссули чемо мдзео», – что означало: «Мое русское солнышко». Глядя на нас, дед Миша смеялся и качал головой. Он считал, что бабушка меня балует, а сам украдкой давал мне сладости и деньги.
Моя русская бабушка Катя управляла домом, в котором я рос, как дирижер большим оркестром – виртуозно и величественно. Когда наша сестра Катя познакомилась с творчеством братьев Гримм и поняла, что не может питаться обычной едой, а только королевской, бабушка и бровью не повела. Уже через час счастливая внучка ела шоколадный суп, сделанный из полезного какао, королевское мясо, отбитое с помощью специального королевского молоточка, и волшебные сладкие пельмени – вареники со смородиной. Также происходило и с нашими с братом просьбами о пироге из сказочных яблок или настоящем колобке.
Когда мне купили надувную лодку и я решил, как Робинзон Крузо, спать только в ней, бабушка не стала спорить. Только сказала, чтобы я взял два одеяла, потому что одно, по правилам путешественников, нужно уложить на дно лодки, а вторым укрываться – и тогда никакие бури и штормы будут не страшны. Она всегда давала нам бутерброды в кругосветные путешествия и не отпускала на войну без чистых носовых платков! До сих пор помню ее маленькие, сухие, узловатые руки, которые столько сделали для меня…
Сегодня мы, благодаря средствам массовой информации, знаем, что герои – это некие исключительные персонажи, ежеминутно совершающие мыслимые и немыслимые подвиги. Но православие знает и другой героизм – тихий, смиренный, кроткий подвиг жить ради других, забывая себя и на деле исполняя главный христианский закон жизни – закон Любви.
Кизим Антон, учитель истории г. Москва
Семейное предание
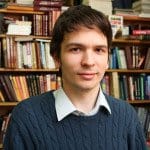 Наша семья хранит историю, которую я называю семейной легендой или преданием.
Наша семья хранит историю, которую я называю семейной легендой или преданием.
Согласно этому преданию, мой прапрадед Тимофей был казаком, воевавшим на стороне большевиков. По окончании Гражданской войны стал вести свое хозяйство, и успешно: предание утверждает, что он приобрел трактор. А во время коллективизации прапрадеда пришли раскулачивать. Если верить легенде, он застрелил пришедших и бросился в бега.
Семью прапрадеда сослали в Архангельскую область (слава Богу, не сделали что-то похуже). Там, на севере, его маленький внук Петя сильно заболел и был обречен на смерть. Но в этот момент каким-то чудом прапрадед нашел своих родственников, забрал внука и увез на юг. А когда Петя окреп и подрос, вернул его семье и – снова исчез. Теперь навсегда. Возвращенный к жизни Петя – мой дед, отец моего отца.
Что-то в этой истории известно достоверно, что-то нет, но много лет она передается из поколения в поколение. Я не знаю, должен ли я верить в это предание, но возможно, я живу только благодаря тому самому чуду. Слава Богу за всё!
Анна Иванова, журналист г. Москва
Лицо-изнанка
 Когда бабушка Аня умерла, мне было всего восемь лет. Что осталось в короткой детской памяти? Старый бумажный пакет с фотографиями, где она такая молодая и хрупкая, диплом о высшем образовании, автобиография, написанная быстрым, иногда неразборчивым учительским почерком. Иванова Анна Александровна. Родилась в селе (неразборчиво) Омской области… поступила в Свердловский Государственный университет… физико-математический факультет… закончила в 1941 году. Всю войну проработала в геолого-разведывательной партии… Однажды во время войны провалилась в ледяное болото по пояс, и спаслась чудом... После войны всю жизнь проработала учителем математики в Кисловодске... Вот все, что осталось у меня от бабушки. Или не все?
Когда бабушка Аня умерла, мне было всего восемь лет. Что осталось в короткой детской памяти? Старый бумажный пакет с фотографиями, где она такая молодая и хрупкая, диплом о высшем образовании, автобиография, написанная быстрым, иногда неразборчивым учительским почерком. Иванова Анна Александровна. Родилась в селе (неразборчиво) Омской области… поступила в Свердловский Государственный университет… физико-математический факультет… закончила в 1941 году. Всю войну проработала в геолого-разведывательной партии… Однажды во время войны провалилась в ледяное болото по пояс, и спаслась чудом... После войны всю жизнь проработала учителем математики в Кисловодске... Вот все, что осталось у меня от бабушки. Или не все?
Недавно я решила связать сыну теплый свитер. Правда, спицы не брала в руки с тех самых пор, когда бабушка показывала мне, как набирать петли – поэтому всегда считала, что не умею вязать. И странное дело: я вдруг обнаружила, что руки сами собой набирают петли и провязывают их! Лицо-изнанка, лицо-изнанка… Руки вспомнили бабушкины уроки и заработали сами собой. Я думаю, так же помнит и душа.
Я помню немногое – лишь отдельные картинки, запахи, впечатления. Аромат яблок белый налив, запах старых книг, тепло ее руки – то, что теперь ассоциируется у меня с домашним уютом, безграничной любовью, чувством защищенности и покоя. Но все, что успела дать мне бабушка за тот совсем недолгий срок, что мы были вместе, спасало меня в моменты, когда, казалось, мрак сгущался так, что нечем дышать. Ведь даже смутное воспоминание о каком-то темном здании с удивительным запахом – который спустя много лет я узнаю в храме и пойму, что бабушка водила меня в церковь – это тоже от нее.
Бабушка никогда не повышала голоса. Когда у старшего брата были экзамены, она специально приехала из Кисловодска к нам в Москву и занималась с ним алгеброй и физикой. Мама до сих пор вспоминает, как бабушка раз за разом терпеливо и спокойно объясняла внуку одно и то же, одно и то же… «У меня бы терпения не хватило», – удивлялась мама.
Мои дети знают бабушку Аню. Мы с ними ездили в Кисловодск, каждый день гуляли в парке, бродили по улицам, и я рассказывала им о своей бабушке. Я хочу передать им память души и все то тепло и любовь, которые когда-то передала мне бабушка. Все, что мы получаем в детстве, остается с нами навсегда, и возможно, в какой-то критический момент мои дети вспомнят парк, солнце, тенистую дорожку, мой голос, бабушку Аню, храм, в который я теперь их вожу. И возможно, это станет той ниточкой, которая удержит их в трудные моменты и поможет идти дальше.
Подготовили Анна Ефимкина и Дарья Баринова