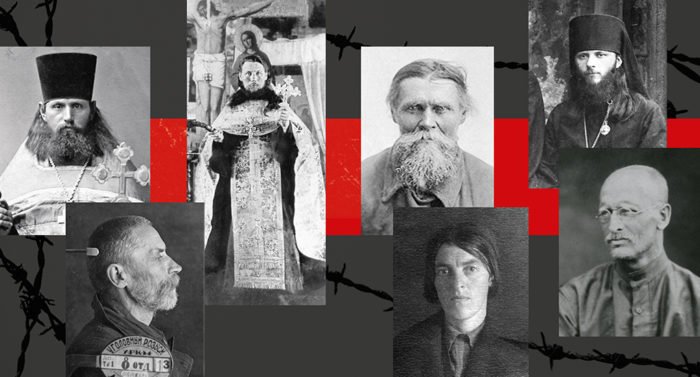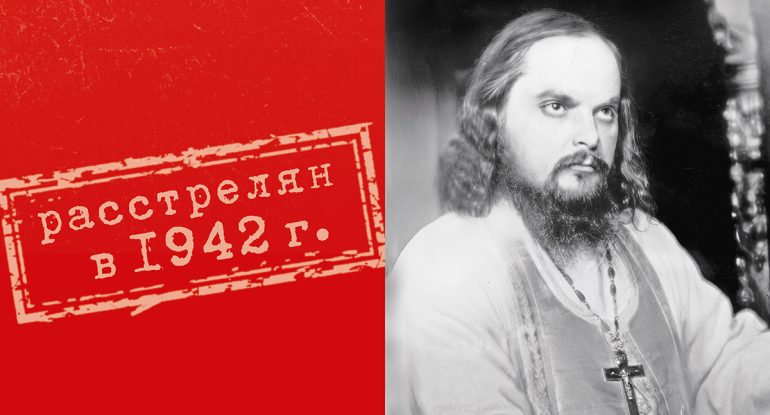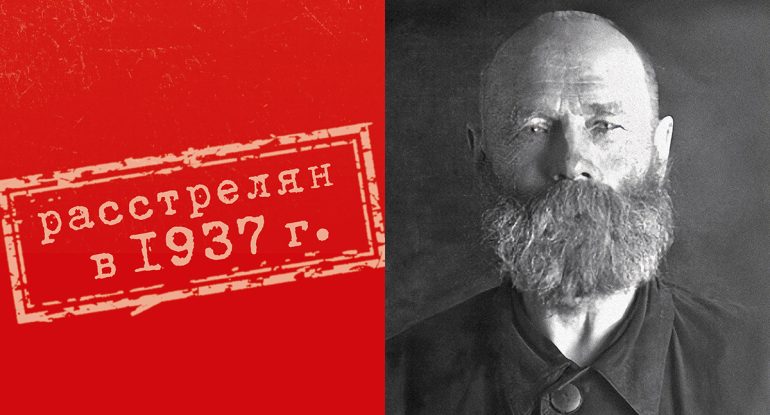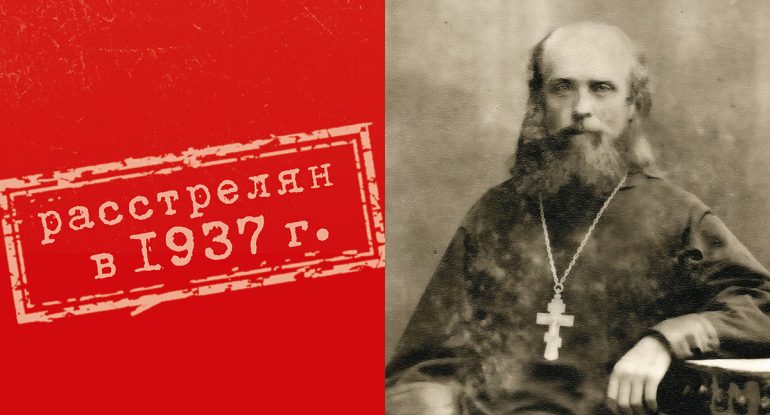Отец и мать его, Пимен и Евфросиния, родили его в 1898 году в селе Константиновка Мелитопольского уезда Херсонской губернии.
Пимену Константиновичу, не имевшему своей земли, приходилось ради прокорма семьи арендовать когда пять, когда десять десятин земли, чуть ли не в одиночку занимаясь всеми работами по хозяйству. Держал в подмогу коровку да двух лошадок и бился, как мог. Не оттого ли маленький Степан, обделённый отцовской лаской, так любил хоть изредка поиграть и повозиться с батькой…
Знанием же молитв, и тягой к чтению духовных книг, и становым церковным воспитанием Степан с сестрою были обязаны своей матери, Евфросинии Романовне, женщине неустрашимой веры.
В девять лет его отдали в церковноприходскую школу, а через три года он уже перешагнул порог училища при Григорие-Бизюковом монастыре.
Сей монастырь под пастырской рукою архиепископа Таврического Димитрия (Абашидзе) имел славу обиталища истинно иноческого благочестия, высокой духовности и миссионерского просвещения.
Учащиеся обязаны были посещать основные богослужения, но Степан едва ли не сразу перестал воспринимать это как дежурную обязанность, они сделались для него глотками живой воды. Боясь опоздать, он спешил на каждую церковную службу; стоял недвижимый всю литургию, всю монастырскую всенощную до конца, до закрытия царских врат, до последнего звука, и только тогда покидал умолкнувшие стены храма после всех остальных.
Неудивительно, что в скором времени он сделался алтарником, прислуживал священнику с какой-то недетской сосредоточенностью, проникнутый величественным и таинственным строем богослужения.
Любимыми книгами сделались для него жития святых; особенно, до слёз, трогало сказание о человеке Божием Алексии...
Господь открывается по-разному. В Степане, судя по всему, зажёгся чистый и ясный огонь Христовой веры, обращавший его к подвигам святых подвижников, к их евангельскому служению, выше и прекрасней которого не было ничего на свете. Он переменился разительно; вне службы такой же улыбчивый и общительный, он в то же время стал заметно самостоятельнее в своих поступках, что в сочетании с врождённой стойкостью перед любыми трудностями сформировало вполне сложившуюся, сильную личность.
Из стен монастырского училища после двухгодичного обучения вышел четырнадцатилетний уверенный в силах хлопец с опытом веры и не пустой головой на плечах.
Казалось бы, что ещё нужно для надёжного будущего, да только повело его по жизни совсем не наезженной житейской колее.
Он вернётся в своё Константиново, будет пару лет помогать отцу. Но не удержится. В 1914 году занесёт его в город Геническ на монастырское подворье, где он пристроится певчим в церковный хор. Здесь же решит досконально изучить церковный устав, ради чего возьмётся ходить, как на работу в Корсунско-Богородицкий монастырь… Потом пригодится.
Опять вернётся в родное село, и будет охотно принят настоятелем местной церкви священником Павлом Буцинским на должность певчего. Не оставит и домашней заботы, пособляя своему родителю, всегда благоволившему сыну во всех его начинаниях.
С односельчанами, главным образом с мужиками, говорил о Боге прямо и к месту, доходчиво, и мужики не хмыкали, не отмахивались, слушали. Уважали…
В феврале 1917 года, за месяц до падения Российской империи, забреют его, девятнадцатилетнего, в армию. В три месяца обучат в Екатеринославле ходить в строю, стрелять и колоть штыком и отправят на Румынский фронт. А уже в июле противник, воспользовавшись революционной смутой, поразившей некогда стойкую русскую армию, атаковал дезорганизованного противника, захватив в плен, в числе прочих, и немалую часть 134-го Феодосийского полка вместе с рядовым Степаном Наливайко.
Ему, как подневольному военнопленному, достанется побатрачить в прифронтовой полосе, затем его определят в концлагерь «Ламсдорф», но в январе 1918 года, по распоряжению лагерного начальства, пошлют на работы в местный посёлок.
Шли годы, чужбина крепко вцепилась в Степана, и, казалось, не быть возврата домой, но тут вмешалась иные силы. Его бесстрашная мать Евфросиния Романовна, добравшись-таки до оккупационных властей на Украине, отданной по Брест-Литовскому договору Германии, добьётся разрешения на освобождение из плена её единственного сына. Степан опять попадёт в концлагерь «Ламсдорф», куда теперь сгоняли военнопленных перед отправкой на родину, и станет считать часы до своей свободы, но, как назло, грянет революция и в Германии. Во всеобщей организационной неразберихе кому и какое дело было до русских военнопленных; концлагерь бросили без снабжения, что могло предвещать лишь голодную смерть. Но вера помогала ему не падать духом.
Степану с горсткой храбрецов удался побег из лагеря, правда, бежать пришлось в обратную сторону - через Германию, Австрию, Венгрию, ночуя в полуопавших осенних лесах, на вокзалах и пристанях, перебиваясь куском случайного хлеба от небрежных скупых подаяний…
В начале зимы одна из метельных ночей подарит ему удачу, он быстрой тенью пересечёт границу и попадёт в Россию; добрые люди помогут достичь Херсона, а оттуда до родного села рукой подать.
Под самое Рождество, обросший, худой, но счастливый до неба, постучится он в отчий дом и упадёт в родимые объятья…
Мало-помалу придя в себя, пристроился на место псаломщика в храме. Отец по-прежнему тянул на себе державшее дом хозяйство. У сестры Татьяны хватало забот и в своей семье. Мать лежала в болезни. По всему, имелась нужда в молодой хозяйке, и Степан женился. Нашёл себе пару из их же села, девицу Харитину Дмитриевну Севастьянову, круглую сироту, прилежную и работящую.
И дом обновился. Молодая семья переняла хозяйство из родительских рук, стало повеселее жить. Не минуло и года со свадьбы, как пришло пополнение, родилась дочка Раиса. Евфросиния Романовна, забыв про свои болезни, нянчилась и возилась с внучкой; дед ладил из липы игрушки…
Жить бы да не тужить, да стали замечать, что-то неладное творится со Степаном, всё молчаливей и сумрачней делается. А причина была непроста. Радость семейной жизни не могла заглушить непрестанной мучительной думы обо всём, что творилось вокруг невероятного, невместимого… Непонятно, как такое могло произойти на этой земле, столько веков стоявшей в православной вере; непонятно, как люди смогли позабыть Христа, как в одночасье оказались Его врагами, как бросились дружно срывать иконы и строить безбожную жизнь…
Но самое жгучее — как быть во всём этом православному человеку? Как можно спокойно заниматься делами, есть, спать, обнимать жену, играться с дитём, шутить, говорить, дышать?.. Степан задыхался, не зная ответа.
Взялся за сугубую к Богу истовую молитву: только Он Один мог дать ответ на его вопросы. Всё случилось во сне. Жене он скажет, что Господь призывает его в Москву - там решится его судьба.
Не откладывая ни на день, посреди цветущего апреля, засобирался Степан в дорогу. Харитина собрала ему сухарей и вяленой рыбы, не скандалила, не рыдала на шее, но лишь горела любящими глазами — а там и мольба, и страх, и единство с мужем… Мать с отцом, зная сына, не спрашивали, отчего да зачем, — едет — значит, на то воля Божия. Не спрашивали, но оба заплачут, когда Степан, оторвавшись от Харитины и дочки, обнимет своих стариков, с которыми неизвестно свидится ли когда-нибудь на земле.
Степану, заряженному во что бы то ни стало добраться до цели, пришлось потратить на всё путешествие сорок с лишним дней и ночей — через всю разорённую гражданской войной Малороссию, через ревущую паровозным дымом транспортную неразбериху, и уйму прочих дорожных препятствий, где за счёт удачи с попутчиками, где проскакивая окольными направлениями, без денег, без паспорта, чтобы наконец почувствовать под ногою мощёную твердь Москвы.
Майская нэпманская Москва 1923 года встретила криками извозчиков, суетнёй мостовых и общей какой-то неприкаянностью…
Стопы его, уже порядком избитые путями-дорогами, привели Степана сначала в Донской, потом в Даниловский монастыри, в коих исповедовался и причащался с пришлым и местным людом, а из московской молвы узнал тут про похороны знаменитого церковного баса — патриаршего архидиакона Константина Розова, о котором в мире певчих ходило столько громких легенд, и поспешил на Ваганьково. Степан много слышал об этом волшебном басе, как всякий тогда в России, слава архидиакона была не меньше Шаляпинской.
На Ваганьковском кладбище колыхалась толпа, затопившая все, какие можно, подходы к церкви. Гроб с телом архидиакона пронесли до храма и внесли быстро внутрь, после чего, к великому людскому недоумению, двери плотно закрыли. Оставшийся перед входом священник сказал, что похороны откладываются на завтрашнее утро, так как ещё не готова могила, а кроме того, не успели собраться все близкие родственники покойного…
Народ поворчал, потоптался, и только было двинулся к выходу, как тут же замер, остановленный сильным голосом, раздавшимся от затворённых дверей собора.
— Народ православный! Неужели так и уйдём по домам?..
С высокой паперти говорил своё слово, распахнутый ветром, мужик — Степан Наливайко. Настал его час.
Не мог он смолчать, глядя на то, как поступили с людьми, не дав никому попрощаться с усопшим: нельзя же так расходиться, неправильно! Взобрался на паперть и высказался о почившем архидиаконе, об этом знаменитом уникальном таланте, отданном целиком служению Тому, от Кого и был наделён этим даром — могучим басом воспевать хвалу Богу, потрясать покаянием людские грешные души, и возвышать омытые от скверны сердца…
По тем революционным временам дело неслыханное, чтобы кто-то вот так во всеуслышание говорил о таких старорежимных вещах. Но вырвалось и о главном:
— Люди русские, что с нами случилось, что мы живём теперь в таком плохом состоянии, в беде и растерянности?..
Трое милиционеров, присматривавших за порядком, обязаны были немедленно пресекать подобную самодеятельность.
— А ну, замолчь! — прикрикнул один из них.
— Гляди, какой горлопан выискался, — подхватил другой.
Третий, самый хмурый из них, ничего не сказал.
Стражи порядка начали протискиваться к Степану, но толпа перед ними, как по команде, сомкнулась неприступной стеной, и преодолеть эту массу упрямых тел уже не представлялось возможным.
А Степан говорил:
— Наступила година испытаний тяжёлых и трудных, но это для избавления народа от греха. Поэтому, люди, не забывайте Бога! Крестите детей! Не живите невенчанными! А перво-наперво живите по совести! Придёт время, когда православные христиане воспрянут, Бог этих богоненавистников свергнет, не бойтесь их!..
Вооружённое подкрепление, вызванное обруганными и помятыми милиционерами, подоспело как раз к моменту выхода народа с кладбища, и Степана арестовали.
В милицейской пролётке его сопровождал тот третий, который хмурый; смотрел с любопытством.
— Вы из какой губернии? — спросил Степана.
— Губернии все мои.
— Как ваше имя и сколько вам лет?
— Мне двадцать четыре года. Фамилия моя Наливайко. Стефан Пименович.
— Какие у вас документы?
— Вот мои документы, — Степан расстегнул ворот рубахи, показывая внушительный нагрудный крест. — Больше у меня нет ничего.
На вопросы, заданные ему в милицейском пункте, отвечать не стал.
Отдали его в руки ОГПУ.
Следователь положил перед ним анкету и предложил внимательно её заполнить.
В графе, какому государству принадлежит, Степан написал: «Новому Иерусалиму», а на немой вопрос следователя, пояснил:
— Сходящему с небес…
Но этим, похоже, запутал ещё сильнее.
В графе о профессии вывел: «Жнец».
В графе о работе: «Свидетель слова Божия, проповедник».
О том, на какие средства существовал и какой владеет недвижимостью, ответил: «По воле Иисуса Христа, всем тем, что подавал Иисус Христос».
О воинском звании: «Воин Иисуса Христа».
Об имущественном положении написал: «Вечное Евангелие внутри меня».
В строке о политических убеждениях: «Истинно православный христианин».
— «Чем занимался и где служил», — прочитал он вслух вопрос анкеты. И, помолчав, произнёс: — Не помню, но знаю, что в России… тогда ещё Россия была, а теперь я вам не буду о России говорить, потому что её не существует…