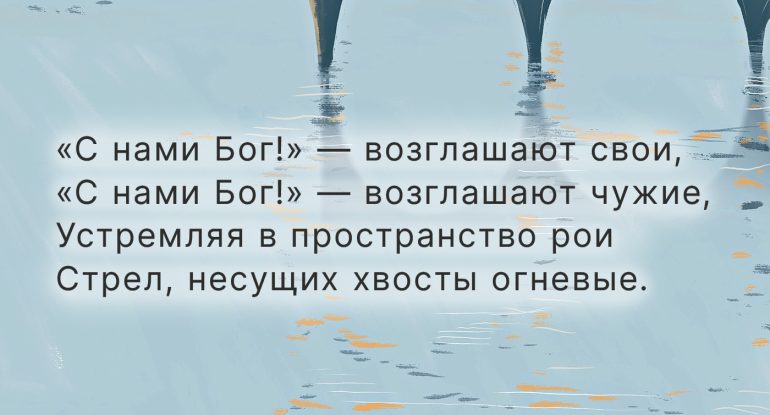Очень не хочется говорить расхожие фразы.
Ушла эпоха... Умер последний шестидесятник... С его кончиной кончилась советская фантастика... Да, это так.
Но всё это общие слова.
А боль-то — вот она. Личная. Бессловесная. Внутри.
Такую боль, такое потрясение редко испытываешь, когда уходит просто какой-то другой человек. Это боль расставания с истекающим кровью куском самого себя, своей жизни, своей души. Боль расставания с ожиданием чего-то лучшего для тебя самого. С давней и неумирающей надеждой.

Я всё думаю: откуда, ну откуда взялся беспрецедентный, длившийся несколько десятков лет авторитет Стругацких? Почему, скажем, мы, члены возглавляемого Борисом Натановичем семинара молодых фантастов, бесшабашные ребята семидесятых годов, для которых, вроде бы, вовсе не было авторитетов, буквально в рот смотрели шефу...
Конечно, мы ему возражали. Не соглашались. Самоутверждались, как могли. И все же сами в глубине души ощущали, что его оценка — это истина в последней инстанции.
И почему, когда сменилось поколение-полтора и в девяностых в нашем семинаре стали появляться совсем иные люди, на них уже не действовала эта магия, и они со Стругацким даже не спорили — просто начинали ЕМУ объяснять, как на самом деле надо писать и продавать книжки.
Может, Стругацких вознесло на пьедестал их диссидентство? Может, потому, что они иронизировали над властью и презирали ее, их так уважали? А когда объект иронии и презрения сыграл в ящик, тут-то все и кончилось?
Но властителями дум они стали куда раньше, задолго до повальной моды на антисоветизм. Страшно сказать — еще самыми советскими своими повестями, вроде бы наивными и с точки зрения изысков большой литературы неглубокими «Возвращением» и «Стажерами» они воцарились в молодых умах. Уже навсегда.
В предисловии к «Возвращению» Стругацкие писали: «Мы изобразили мир, каким мечтаем его видеть, мир, в котором хотели бы жить и работать, мир, для которого мы стараемся жить и работать сейчас. ...Если хотя бы часть наших читателей проникнется духом изображенного здесь мира, если мы сумеем убедить их в том, что о таком мире стоит мечтать и для такого мира стоит работать, мы будем считать свою задачу выполненной».
И она действительно оказалась выполненной, в этом нельзя сомневаться. Великие братья умели изобразить желаемое так убедительно, так заманчиво, что громадное большинство их читателей и впрямь заражалось желанием жить именно в таком мире и ни в каком ином.

Но разве можно назвать вдохновенную попытку убедить людей мечтать о мире ином, том, которого нельзя ни увидеть, ни пощупать, ни вообще убедиться, возникнет он когда-нибудь, или нет, и все-таки ради его обретения напряженно трудиться в мире этом — разве можно назвать такую попытку иначе, как распространением веры?
«И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. ...Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его... Спасенные народы будут ходить во свете его... И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи... И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл».
Чем не мир Полудня? А ведь Иоанн Богослов описал его в Откровении на две тысячи лет раньше Стругацких.
Даже отсутствие при коммунизме молитвенных домов и коленопреклоненных космолетчиков тут не требует объяснения, буде таковое кому-то потребовалось бы — ибо оно было дано в самом Откровении.
Конечно, в 60-х никто не мыслил подобными категориями. И уж в первую очередь не мыслили так сами Стругацкие. Никому и в голову не пришло бы расценивать лучшую фантастику той поры как религиозную литературу. Но она была таковой. Притягательность описанного Стругацкими мира оказалась настолько сильна, что в коде архетипов культуры они ощутились людьми, которые взаправду побывали в прекрасном будущем, видели его и рассказали о нем. И о том, как его обрести.
Парадоксальным образом советская НФ, наиболее одаренными и продуктивными творцами которой оказались братья Стругацкие, с ее почти воинствующим богоборчеством, сама того не сознавая, оказалась единственным и неповторимым, просто — не успевшим понять себя приспособлением православной традиции и ее системы ценностей, на которых спокон веку стояла и еще кое-как стоит Русь, к ракетно-ядерной, генномодифицированной современности. Пожалуй, лишь она, не поминая имя Божье всуе, сумела намекнуть, как вывести бессребреническую, трудоголическую, братолюбивую, нетерпимую к силам зла этику православия, безоговорочно нацеленную на личное и общественное преображение, в посюстороннее техногенное будущее, распахнуть перед традицией бесконечность. Как, не отказываясь от себя, не ломая хребет собственной культуре, сохраняя и преобразуя традицию, именно на ее основе созидать реальное будущее — пусть хоть и с помощью логарифмических линеек, электронных микроскопов и прочей неизбежно грешной посюсторонней дребедени, но поведенчески-то, этически-то — в поразительном соответствии с тем, как учил людей проводить земную жизнь Сын Человеческий.
И последующая критика Стругацкими советской и российской действительности тоже именно поэтому воспринималась совсем иначе, чем яростные, исполненные ненависти выклики записных диссидентов или, несколько позже, якобы обличительная, а на самом деле из собственного гнойного пальца высосанная мерзость, производимая нынешними демократическими мастерами словесности. Схватка Стругацких с неприглядной реальностью были облагорожена и легитимизирована подспудной верой их читателей, что уж братья-то точно знали: именно вот это, и это, и еще вон то преграждает нам путь в рай на земле. Ведь сами они уже прошли этим путем и выучили на нем каждый поворот и каждый брод. Они имели право оттуда, из света говорить: это бревно надо убрать, а то не пройти. Этот мост надо починить, а то не дойти.
А съеживаться авторитет Стругацких начал тогда, когда силу начало набирать поколение, не пропитавшееся сызмальства стремлением к светлому будущему. Посюстороннему ли, потустороннему ли... Ни к какому.
...В последние годы мы с Борисом Натановичем всё больше спорили. И мне сейчас так больно еще и потому, что, как всегда в такой момент, самые главные слова оказались не сказаны, самые главные доводы не приведены и самые главные ответы не услышаны.
Но, может быть, не все потеряно?
В конце концов, известно, что в промежутке между смертью на кресте и воскресением Христос спускался в ад, проповедовал там и вывел оттуда души ветхозаветных праведников и всех тех, кто уже посмертно, страдая во тьме кромешной, уверовал в Него. Эти люди оказались в аду лишь потому, что жили и умерли до того, как Сын Человеческий родился в мире сем и подарил жившим при нем и после него людям шанс на спасение; умершие до Рождества Христова были такого шанса изначально лишены не по собственному неверию, не по собственным грехам, но по никак не зависевшим от их воли объективным причинам.
Хочется верить, что это был не единовременный акт, не стартовый, как теперь принято выражаться, пакет — но прецедент.
Люди, которые словно бы инстинктивно, словно бы по собственной природе своей живут и действуют так, что, носи они на груди крест, их можно было бы причислить к лучшим из христиан, к добродеям, прозорливцам, подвижникам и мученикам, если в силу совершенно непреодолимых исторических условий они были лишены возможности своевременного естественного воцерковления, выводятся из ада в рай лично Христом за руку.
Может быть — конечно, если мне тоже когда-нибудь посчастливится — я еще сподоблюсь увидеть их с братом, сидящими на старой армейской плащ-палатке, небрежно расстеленной под эдемской сикоморой; конечно, как и здесь, на пару райских ярусов выше меня, но все же так, что слышно будет. Может быть, мы еще доспорим.
Хотя, наверное, там и спорить не понадобится.
Там все будет так ясно...