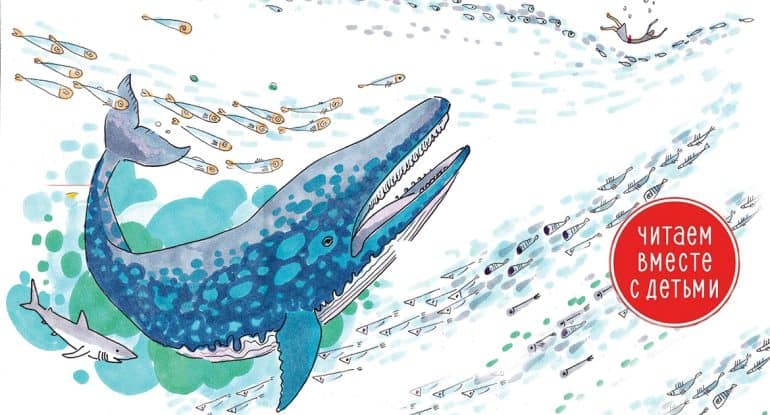Более двух лет в нашем журнале нет рубрики «Чтение». Причиной тому — серьезное сокращение объема журнала, вызванное кризисом. Многих читателей расстроило исчезновение художественной прозы в «Фоме». Нас это тоже расстраивает, но пока мы не можем восстановить прежний объем журнала и, соответственно, вернуть «Чтение». Поэтому мы решили хотя бы на сайте еженедельно публиковать прозу, которая, как нам представляется, была бы интересна читателю «Фомы».
Разумеется, формат сетевой публикации отличается от формата публикации бумажной. С одной стороны, на сайте мы не скованы жесткими рамками объема, как это было в журнале, и, в принципе, можем размещать достаточно крупные произведения. С другой стороны, читать электронный текст сложнее, чем с бумаги, поэтому при прочих равных давать очень длинные вещи не следует. Кроме того, журнальные публикации были у нас иллюстрированы, а давать иллюстрирование на сайте мы пока не можем по финансовым соображениям. По тем же соображениям публикации — во всяком случае, пока — будут безгонорарными.
А вот критерий художественного качества сохраняется и в случае сетевых публикаций. Тут, понятно, не избежать субъективизма. Мы отдаем себе отчет в том, что вкусы у людей разные и что единой мерки не существует. Поэтому что понравится одним, то не понравится другим. Так было, кстати, и с рассказами, напечатанным в бумажной версии «Фомы» — всегда находились читатели, у которых были серьезные претензии к нашим публикациям. Но это нормально — литература на то и литература, чтобы вызывать споры. Возобновляя в сетевом формате «Чтение», мы будем стремиться и к высокому литературному качеству публикаций, и к их жанровому и художественному многообразию. Речь идет не только о так называемой «православной прозе», но вообще о той прозе, которая может быть интересна православному читателю. Поэтому тут будут не только рассказы на церковную тему, но и любые произведения, которые в мировоззренческом и нравственном плане созвучны православному читателю.
P.S. Возобновляя «Чтение», мы тем самым возобновляем и прием материалов от авторов, готовых публиковать свою прозу на сайте «Фомы». Тексты можно отправлять на адрес редактора отдела культуры Виталия Каплана: kapvit@foma.ru. Напоминаем, что, как и до 2009 года, редакция вступает в переписку с авторами только в случае положительного решения по их произведениям.
Живая проза прорывает твое личное время и во многом предвосхищает твой личный опыт. Новая книга – это не только твоя жизнь, пока ты ее пишешь, и не только опыт предыдущей жизни, входящий в нее, но и – твоя судьба, твое будущее. Если бы автор только повествовал для читателя, ему было бы просто скучно, а скучая – что напишешь? Дело в том, что если человек пишет, то он сам познает то, чего до этого не знал. Это его метод познания – писать. Гении, быть может, познают то, чего до них никто не знал. Прочие – заново открывают: для себя, для таких, как они, для времени. Человек, собственно, не дарит миру ничего нового, он считает новыми те вещи, которых раньше не знал и вдруг обнаружил в этом мире… Но они уже были до него, раз он их нашел. Это только он не знал об их существовании. А в мире нет нового и старого, потому что в нем все есть сейчас.
А. Битов. «Уроки Армении».

Церковь одинокая
Старый «Пазик» стонет и взвизгивает как ушибленный кобель. Дорога от Мисюрихи до трассы напоминает внезапно застывшую во время шторма поверхность моря. Площадь, конечно, не столь обширна, но автобусу хватает места для клоунады. Зрители этого аттракциона и вольные его участники изнывали бы от тряски, духоты и пыли, если бы ехали в первый раз. Но, привычные к «качке», они не обращают внимания на отсутствие комфорта и продолжают жить своей сложной жизнью. Бабы переговариваются, придерживая пустые корзины и сумки с тощими кошельками, мужики шутят. Двое парней интеллигентного вида даже умудряются читать.
– Валька, давай с нами, – машет в окно мужик с мясистым, иссиня-загорелым, будто промасленным лицом проезжающему навстречу стогометателю.
– Он, чай, Нюрку свою зачеплять поехал, – громко отзывается молодая полногрудая женщина в кримпленовом платье.
– Да, с Нюркой-ти ёво токо на тракторе можно сладить, – добавляет еще кто-то, и все смеются.
Проезжают деревеньку ли, поселок ли – теперь уж и не разобрать – совершенно заброшенную. Дома большей частью разобраны и даже контуры их заросли бурьяном. Некоторые из оставшихся зияют пустыми проемами, ждут своего часу.
Молодой парень в очках закрывает книгу, оставив безнадежную попытку улавливать пляшущие строки, и смотрит в окно.
Меж полей и перелесков автобус выбирается, натужно урча мотором, к трассе. Дорога идет ровнее. Накатанная совхозным транспортом, в сухую погоду она почти не уступает «бетонке».
Деревня Мисюриха, где отрабатывают плановую «картошку» городские работники умственного труда (для все большего слияния с физическим), находится в глубинке – вдали от райцентра и даже от шоссе. Но пока едут проселочными дорогами мимо полей, то притулившихся на буграх, то полощущихся бескрайними просторами, зажатых рощицами лугов и мелких перелесков минуют всего один безлюдный поселок.
Пустынно, нетронуто прекрасно. Полное отсутствие людей даже вызревающие поля превращает в естественное произведение природы.
– Куда у вас народ уезжает? – спрашивает парень в очках сидящую через проход старушку в светлом платке, когда проезжают еще одну опустевшую, полуразрушенную деревню.
– Куда уезжат! К нам в Мисюриху, в Шатки, в Арзамас. Кто куды, – охотно отвечает старушка с живыми голубыми глазами.
Мисюриха – крупнейшая из окрестных деревень. В ней более ста дворов, и она еще стоит крепко. Хотя во многих домах живут одни старухи, после смерти которых жилища глядят пустыми окнами с перекрестьями досок в уходящий мир, кособочатся и, в конце концов, утыкаются в буйствующую крапиву и репей. В населенных деревнях опустевшие дома почему-то не разбирают. Может, думают, кто-нибудь еще поселится…
Живут на земле люди, обитает разная живность. Живут города, селения… Живые существа умирают от старости, от болезней, иногда погибают. Отчего умирают города? Города гибнут. Троя, Помпеи и Геркуланум, Персеполь. Волею природы или силою завоевателя. Умирают только веси. Человек без селения жить может, селение без человека – нет.
Старушка оказывается шустрой и разговорчивой.
– А вы отколе? – спрашивает она парня в очках и натруженной рукой с сучковатыми пальцами поправляет под платком волосы.
– Из Арзамаса.
– Студенты аль с заводу?
– С завода, можно сказать. Из конструкторского бюро.
– А-а!.. Веники вяжете?
– Веники. Косили один раз.
– Ох, и зачем народ изводят! Ну чёво вас пригнали! Ты хоть косу-ти держать умешь?
– Научился… Почти.
– А веники! Ведь ваши веники гниют, и коровы их есть не будут. Мы сами-ти как их делам? Нарежешь, перевяжешь, просушишь. Привезешь к дому да опять сушишь. Как дождь, сразу убирашь. А вы чёво – бросили и все.
– Мы разве виноваты, – оправдывается городской. – Трактор не дают, вот наши веники и сохнут, и мокнут, и гниют.
– Никому ничёво не надо. Никому! Одно хапство кругом да жульство. Хозяина нет. Директор токо и знат – дом себе строит. Целу усадьбу. Ему через год на пенсию, ёво ничёво и не беспокоит… Я вот сорок пять лет здесь отработала, сначала в колхозе, потом в совхозе – сорок пять лет спину гнула. И чёво?! – она машет рукой. – Мне уже семьдесят один, а я токо два года как не работаю. Все просили: пособите да пособите – всех старух созывали.
– Вы не здешняя?
– Нет, я с Вадского раиону. Там родилась и выросла. А сюды замуж вышла. Токо вышла, переехала, а мужа на войну взяли – война началась. Вот с тех пор одна – погиб он в сорок первом же… – голубые глаза не туманятся от воспоминаний, видно, горе уже изнемогло в ее старческом сознании.
– Вы совсем одна?
– Почему? Сын есть. Он у меня в Шатках живет. Дом у ёво там, семья. Он на самосвале работат. Мне когда чёво привезет: дровишек, для хозяйства чёво…
– А церковь в Мисюрихе была? – неожиданно меняет тему парень.
– Была церковь, была! Вот как от магазина идешь – налево. Бугор там такой. Вот там церковь была… Лет пять уже как сломали.
– А книги из нее куда дели?
– Поп забрал.
– А у вас нет каких-нибудь церковных книг?
– Нет, у меня нет…
За окном проплывают перелески: то хвойные, ровные, видно, искусственной посадки, то естественные, разномастные, с неизбежными березами-красавицами на опушках. Открывается вдруг медовая гладь ржаного поля, а у рощицы на косогоре виднеется треугольник земли с невысокой зеленью молодого гороха.
– А у нас вот, – продолжает разговорчивая старушка, – где я родилась, наоборот, токо церковь осталась. Я ездила летось в Вдский-ти раион. Нашей Покровки как не бывало.
– И церковь совсем одна стоит? А вокруг?
– Совсем одна. А вокруг ничёво. Поле.
– Так вы там родились?
Соседка уходит в воспоминания, встретив неподдельный интерес к своей скромной персоне.
– История нашей жизни большая… Родилась я в селе Покровском Вадского раиона. Сельцо было не очень большое, но вот имелась своя церковь, свой приход. Не нужно было «за семь верст ходить киселя хлебать». Барская усадьба находилась в соседней Яблонке, но барин-ти жил там мало. Даже на охоту не приезжал. Да кака там охота – поля одни… А революция произошла, взяли власть рабочие, совсем он пропал – даже и не знали куды… У нас-ти все спокойно проходило. Помню, собрали митинг, красны флаги повесили. Сказали, что помещика больше не будет, и земля принадлежит крестьянам. Усадьбу-ти помешицку рушить не стали – школу там организовали, десятилетку. Создали у нас комитет бедноты – Мишку Пестрякова, самого бедного-ти, председателем поставили. Везде так было. Придут новы власти: кто, говорят, у вас самый бедный будет, вот он назначается председателем комитета. Ездили эти комбедовцы по домам и собирали зерно. По десять пудов надо было сдать.
Отец мой, Василий Егорович, в середняках считался. Приходит к нам как-ти дядька, Герасим Иваныч, и говорит: «Слышь, Василий! Нова власть по домам ездит. Готовь пшеницу-ти – отбирать будут». Отец у меня тихий был, он вроде отдавать собрался. А мать как закричит: «Я им отберу! Пусть токо попробуют, токо сунутся!..». Она боевая была, смелая. Ну, тут и Мишка едет со своими помощниками и велит предоставить десять пудов пшеницы. А мать как заголосит: « А ну уматывайте, нет у нас ничего! Ничего не дам! Да что это за жизнь, такая мать, – старушка так разошлась, воспоминая, что у нее непроизвольно выскочило крепкое словцо. Но, не подав виду, она продолжает:
– При помещике батрачили, батрачили – ничего не имели. Прогнали ёво, опять отбирают все. А ну проваливайте!». Женчина она была горячая. Отец-ти перепугался: «Что ты, говорит, Настасья, арестуют. Может, сдать лучше?» «Ничего не дадим!.. Да я лучше сдохну на них, но ни мешка не дам!» Это она отцу-ти. А Мишка Пестряков был мужик простой, не зря он самым бедным слыл в Покровке, отступился. Выматерился и тронул поводья. «Ну, говорит, ее к лешему, пусть подыхает на своих мешках». Потом, правда, круто завернули, пришлось отдать… Но мало кто сам подобру-поздорову расставался со своим зерном: сами ведь сажали, потом и кровью поливали, своей ведь жилой вытянутой возделывали все. А кто не свои жилы тянул, если кулак или эксплататор какой, так им еще жальче было отдавать. Запрягали ночью телегу, грузили мешки с зерном и везли закапывать. Комбедовцы прознали про это и стали посылать детей своих – следить. Те прибегали под утро и рассказывали, кто где закопал.
Такие были времена, – заключает старушка.
Завывает мотор. Пассажиры немного сникли. Хотя автобус выехал на шоссе, асфальт со множеством рытвин и колдобин не делает путь глаже. Загорелый мужик с мясистым лицом при очередном взбрыкивании очухивается от дремоты и осматривается:
– На шоссейку выехали.
– Да, Семеныч, – опять отзывается женщина в кримпленовом платье. – Теперь как черт на козе скакать будем.
– Ну ничёво, еще минут тридцать – и Шатки, – успокаивает он себя и роняет голову на грудь.
– Помню, как Герасим Иваныч все рассуждал, – продолжает синеокая старушка, утерев большим и указательным пальцами губы. – «Ой, неправильно государство повернуло! Что же теперь будет: земля всехняя, значит, считай, ничья. Нет, не видать добра от этого. Кто же работать будет на всех?.. И за всех! Не-ет, не то, ой не то… Да я б, говорит, за свою землю!..» – и стучит себя кулаком в грудь… Он так и не вступил в колхоз-ти. А отец мой вступил.
Я сюды приехала – тоже всю жизнь в колхозе. Жила по правилу, по закону, чтобы душу не замарать. Сорок пять лет здесь проработала. У нас колхоз хороший был. Мисюриха центральной усадьбой считалась. А потом укрупнять стали – тут уж началось. Председателя не видно стало… Шесть, наверное, колхозов объединили – разве за всем уследишь?! Пропал хозяин, никому ничёво не надо. Все токо себе прут, одно хапство… И совхоз вот организовали, так не лучше…
– А народ-то давно из деревень уезжает? – спрашивает парень.
– Давно уж. Когда укрупняли, личные хозяйства отбирать стали – вот с тех пор.
– И из вашей Покровки все разъехались?! А где она находится?
– Вот как едешь из Воронцова в Вад (а слышится: в ад), там поле, и одна церковь стоит. Там наша Покровка была… Ведь как раньше было? Ломали помещичьи дома, церкви – мало чёво осталось. Это у нас мирно все проходило, без кровопролитьев. И барский дом остался – там школу сделали, и церковь. Стоит вот теперь одна одинешенька, во имя Покрова Богородицы сооруженная… Когда? Одному Богу ведомо. Сказывают, будто году в десятом…
Много было пережито, много трудов в землицу вложено… Разъехался народ: кто в Вад (а слышится…), кто в Арзамас, кто по другим деревням – к родственникам. Люди уехали, дома на дрова разобрали – не стало деревни, одна церковь осталась. Стоит весной или осенью посреди темно-бурого поля, гордо подняв свою головку-маковку к небу, будто сама на пашне выросла. Всем ветрам открытая, всем дождям и бурям подверженная. Стоит одна одинешенька и не зайдет никто. Токо носатые вороны кружат…
– Слышишь, – обращается парень в очках к своему успешно читающему соседу. – Церковь среди поля одна стоит, а вокруг – ничего! Все распахали.
– Что, думаешь, иконостас сохранился?
- ОПЫТЫ. Продолжение. — Шарик (опыт самовыражения). Auto (опыт аутизма).
Фото Владимира Ештокина.