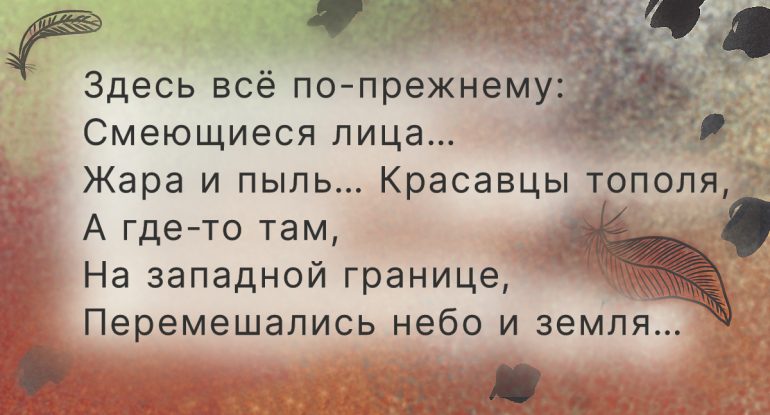Валентина Васильевича Петрова знают многие люди, связанные с космосом, — он долго преподавал в Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина и Центре подготовки космонавтов. Кстати, они с Гагариным были хорошо знакомы — именно с Петровым первый космонавт планеты ездил в Троице-Сергиеву Лавру.
Валентин Васильевич — ленинградец. Шестилетним мальчиком он чудом выжил страшной зимой 1941–1942 года совершенно один в большом холодном доме. О том, как это было, он рассказал журналу «Фома».

Мы с мамой жили на Девятой линии Васильевского острова, на втором этаже старинного дома, в квартире с высокими потолками. Мама работала на заводе «Электросила». Отец был на фронте.
Вначале мы при каждой сирене бежали в бомбоубежище, но к концу осени привыкли, и я, шестилетний, со старшими мальчишками уже лазил на крышу гасить зажигалки.
Первое мое яркое блокадное воспоминание связано с выступлением Сталина 7 ноября. Радиорепродукторы на улицах разносили его речь по всему городу. И конечно, это всех вдохновило, мы же в Сталина верили, как в святую икону: сказал — победим врага, значит, победим!
Потом была огромная радость, когда немцев отбросили от Москвы. А еще помню, как нам повезло: перед самой блокадой от отца с фронта приехал человек, передал нам с мамой сухари.
Осенью 41-го я еще ходил с тетей в церковь — мамина сестра брала меня с собой на службы митрополита Алексия (Симанского), будущего Патриарха. В храме я получал «кусочек хлебушка» — причастие. Мама у меня тоже была верующая. Она крестила меня еще до войны, смелый поступок в те годы — крестить сына красного командира. Деревянный крестик, который мама повесила мне на шею, был со мной еще долгие годы.
Первую блокадную осень мы кое-как прожили, а потом наступила зима. Света не было, вода из крана не текла — я с саночками ходил за ней на Неву. В санках помещались два бидона: поменьше — нам с матерью, большой — для соседок, жены и сестры летчика. Сам летчик был на фронте. А соседки пускали меня к себе погреться — у них была печка-буржуйка, и мы отдали им всё, что могло гореть. Мама приходила с завода поздно, когда я уже спал, а утром нужно было рано вставать и идти в очередь, отоваривать продовольственные карточки.
Однажды мама с работы не вернулась. Потом выяснилось, что она прямо на улице потеряла сознание от голода, ее подобрали и вывезли из Ленинграда по «Дороге жизни». А я остался в холодной квартире один.
Сначала я ещё продолжал возить воду для себя и для соседей, но потом соседи умерли. Не от голода — от холода: всё, что могло гореть, сгорело в их буржуйке, больше топить было нечем, и они окоченели. Я зашел к ним — а они лежат как дрова... Умерли и другие соседи. Во всём подъезде живым остался я один.
Меня спасла теплая одежда: еще до войны мне сшили удобную теплую шубку, а на голове я носил отцовский авиационный шлем, тоже меховой. Я, как мог, просил Бога, чтобы мои родители были живы и чтобы я с ними поскорее встретился, — держался за свой деревянный крестик и молился. И верил, что все мы обязательно увидимся.
Прожить один я умудрился почти две недели. В дом никто не заходил — никому до меня не было дела. Тогда только и видно было: вот опять труп на саночках везут... Хоронили в Ленинграде в те страшные дни не по православному и не по советскому обряду, а просто сваливали трупы в яму, и всё...
И вдруг радость: в городе пустили трамвай! Представляете: тишина, тьма кромешная, а трамвай ходит! Значит, есть жизнь!
Карточки у меня оставались — своя и мамина. И не только на хлеб, там было много всего. Но, кроме хлеба, все равно ничего не выдавали — ни крупы, ни мяса, ни сахара. Вкус блокадного хлеба не забудешь: он всё время менялся. Под конец там муки было совсем мало, больше всяких примесей: добавляли и отруби, и всякую гниль. Но я его всё равно ел — жить-то надо было.
В очередях за хлебом люди вели себя по-разному. Кто-то все время ходил, чтобы не замерзнуть, кто-то накидывал на себя шубы и сидел, ждал, пока хлеб привезут. Иногда час, иногда четыре... Но ругани, конфликтов не было. Наоборот, если кто-то отошел — смотрели, чтобы человек вернулся на свое место.
На Неву вела тропиночка, а в конце ее — лунка. Набирать воду мне помогали, я хоть и рослый был для своих лет, но всё равно маленький. Воду эту я дома пил холодной и сырой — греть ее было не на чем. А теплую пил только у зенитчиц. Они меня и спасли — расчет девушек-зенитчиц, человек пять. Они иногда заводили меня к себе в теплушку — там было чуть теплее, чем на улице — и наливали мне горячей воды (заварки у них, конечно, никакой не было). Это зенитчицы заметили, что сначала я ходил с двумя бидонами, а потом стал ходить с одним. Спросили, кто я, где мои родители. Я рассказал, что остался один, и они оставили меня возле своей зенитки. Сказали: «Жди нас здесь, за тобой придет машина».
И машина пришла. Там уже было двое ребят чуть старше меня, но чувствовали они себя хуже, чем я. Потом подсадили еще двоих. На Большую землю нас вывезли 25 января 1942 года. Помню, я восхищался девушками с фонариками, которые стояли вдоль всей «Дороги жизни» — через каждые несколько километров. Фонарики у регулировщиц были маленькие, чтобы видно было только водителям, а немецким летчикам — нет. Ночь, мороз, а эти девушки стоят, движение направляют! А машин у нас в караване штук восемь, не меньше! И все с детьми, с женщинами... Ехали медленно, несколько часов, чуть не туда свернул — и машина уйдет под лед. Но добрались — нас не обстреливали. Хотя некоторые караваны попадали под бомбежки.
Потом нас разделили, погрузили в поезда и повезли в тыл. Ехали в теплушках, спали — кто на мешках, кто на чем, кому как повезет. Я спал на циновке. В вагоне было теплее, чем в Ленинграде. И мы уже понимали, что спасены, хотя бы потому, что в первый раз поели.
Потом нас всё время кормили, и хлеб был уже не ленинградский, а настоящий, из муки, и не по 125 граммов, а, наверное, по 200. Но в эшелоне был врач, который следил, чтобы кормили нас правильно. И еще, на мое счастье, в нашей группе была девочка постарше, она не давала нам есть то, что люди приносили к вагонам, зная, что едут блокадники, — жмых, картошку... Но нам, дистрофикам, всё это есть было нельзя. Не все это понимали: некоторые хватали и сразу съедали, а потом — заворот кишок. Многие дети умерли по дороге. А мы — нет. Хотя ту девочку, которая прямо по рукам нас била, мы по наивности ненавидели.
Тогда я впервые почувствовал, какая она огромная — моя Родина! Из Ленинграда мы добрались сначала в Чувашию, в какой-то колхоз. Там нас ни о чем не спрашивали, только кормили и выхаживали. И туда за мной приехала мама. Мне повезло — она меня быстро нашла.
Потом отца после тяжелого ранения отправили в тыл после ранения, где он готовил кадры для фронта, и мы с мамой поехали к нему, в Среднюю Азию. Там к нам относились замечательно, меня жалели: блокаду пережил! Когда отца перевели в Ашхабад, однажды один узбек вручил мне, как блокаднику, целый пакет сухофруктов — настоящее сокровище! Нам его хватило на несколько недель.
А как-то ночью все вдруг начали стрелять. Я понял — победа! И какой-то военный дал мне настоящий шоколад. А я и представить себе не мог, что он есть на свете!
Подготовила Наталья Харпалёва