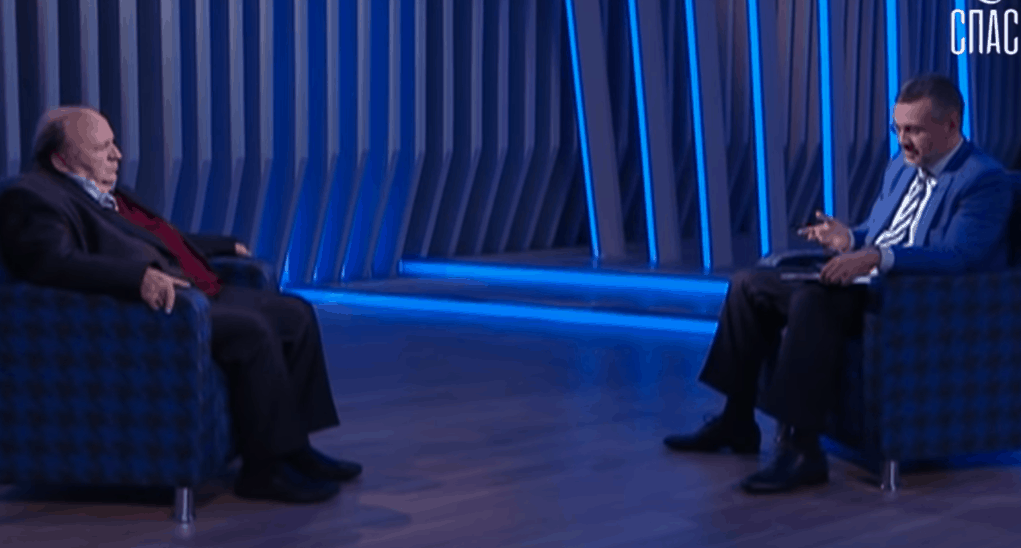Гость программы Николай Лисовой — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.
«Парсуна» — авторская программа на канале «СПАС» председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды.
Начинаем. Здравствуйте уважаемые друзья! Мы продолжаем цикл программ «Парсуна». Сегодня у нас в гостях Николай Николаевич Лисовой. Николай Николаевич, сердечно вас приветствую!
Добрый вечер!
Спасибо большое, что вы к нам пришли!
Взаимно. Рад.
Николай Николаевич, я хотел по уже сложившейся традиции нашей программы в начале попросить вас представиться нашим уважаемым зрителям. Ну, то есть что-то такое сказать о себе, что для вас сегодня важно, что вы считаете важным сообщить.
Ну если, так сказать, говорить о самом важном, то, конечно, надо сказать все-таки, что я главный научный сотрудник Института российской истории Академии наук. И одновременно еще являюсь заместителем председателя Императорского Православного Палестинского Общества.
Замечательно! У нас 5 частей, я вам говорил, да, напомню нашим уважаемым зрителям, это вера, надежда, терпение, прощение и любовь. Это связано с молитвой Оптинских старцев. Начнем тогда с веры.
ВЕРА
Вот когда-то, я не помню, это была то ли какая-то ваша телепрограмма, то ли где-то я прочитал, вы сказали, говоря о чем-то, вы сказали: «Я говорю, как человек, давно размышляющий над Евангелием». И знаете, вот бывают такие фразы, которые врезаются. Вот мне эта фраза — «размышляющий над Евангелием» — она врезалась в память. И я ее очень часто вспоминаю, потому что мы не только не размышляем над Евангелием, мы мало читаем Евангелие. А ведь христианину без этого невозможно, правда?
Я думаю действительно так. Потому что, вообще-то, я не помню себя без того, чтобы у нас в доме, еще во времена моего детства, всегда возле бабушки, на ее табуретке или на ее тумбочке, всегда лежал карманного формата Новый Завет с Псалтирью, и Евангелие звучало всегда. Даже тогда, когда не было церкви, в которую можно было бы пойти молиться. Но вот своя, домашняя церковь, она всегда была действительно.
А вот Николай Николаевич, скажите, а вот вера — это ведь не что-то такое, так сказать, статично застывшее, да. Вот человек меняется на протяжении жизни, и вера его меняется. Она проходит какие-то испытания, возможно. И Вы не могли бы сказать, вот ваша вера, как она менялась? И с какими, ну, как сейчас принято говорить, вызовами Вы сталкивались в плане именно христианской веры?
Я вас разочарую. У меня моя вера не подвергалась, слава Богу, испытаниям. И поскольку я родился в религиозной семье и крещен был в младенчестве, как положено вообще христианину…
Да.
…то вот как-то все ровно было. Другое дело, что во времена, так сказать, школьного отрочества и потом студенческой юности приходилось, как бы так сказать, как владыка Питирим в таких случаях говорил: ноль пишем, два в уме. То есть не обо всем мы могли говорить. Но это не означает, что вера изменялась. Действительно, вера немножко обогащалась и становилась более активной по мере того, когда ты получал возможность действительно с ней выступать, с ней работать и ей служить. У меня это получилось, начиная с 69-го года, то есть, когда мне было 22 года, когда меня, так сказать, как бы вынул в свой Издательский отдел Московской Патриархии владыка Питирим. Вот с этого времени у меня вера уже была просто… ну как вам сказать, если можно так выразиться, уже не только жизнь, но и работа.
А это разве было тогда не опасно? Вот как вообще это стало возможным?
Значит, на самом деле было так, что те, которые боялись, они боялись. А те, которые не знали, что надо бояться, они не боялись.
А вы не знали, что надо бояться.
А я не знал. Потому, что я первое свое причастие помню, когда мне было 4 или 5 лет и меня бабушка везла в отцовском экипаже, отец был командиром полка, начальником гарнизона…
Как же это возможно?
…и он меня, и он меня вез в экипаже.
В храм?
В Свято-Никольский монастырь. Мы в Мукачеве тогда жили. И в Мукачевском Свято-Никольском монастыре меня причащали с сестрой, с моей сестрой и потом точно также в этом экипаже, через весь город везли обратно домой.
И у отца не было проблем?
И не было проблем. Вот в чем вопрос.
Удивительно.
Я не сочиняю.
Ну я понимаю.
Я просто вспоминаю как было. Вот. Это во-первых. Во-вторых, когда я пришел к владыке Питириму, сразу мы с ним договорились, что я выписываю домой «Журнал Московской Патриархии». Мы сразу договорились, что выписывает официально гонорар на мой паспорт , на мое имя там и так далее за литературную работу мою. И никогда никаких вопросов по этому поводу не возникало ни у кого.
Потрясающе! Николай Николаевич, а вот все-таки эти внешние условия, которые меняются, они какое имеют отношение к вере? Я вот что имею в виду. Когда легче верить: когда есть некое давление, и тогда мы видим ну исповедание веры, или когда вроде бы все можно, а над Евангелием мы не размышляем? Это связанные же вещи внешне?
Я думаю, да. Я думаю, что на самом деле легче, когда трудно.
Легче, когда трудно.
Да, легче, когда трудно. Это общее правило. Это не только в чисто духовном… в духовной жизни, в духовном нашем бытии. Это, как вы знаете, наверное, это точно так же и в творческом отношении. Вот пока у нас была жесткая цензура и на телевидении, и на киностудиях, и в литературе, то создавались великие произведения, создавались великие фильмы, которые мы любим и смотрим до сих пор. А вот с тех пор как все отменилось и никакой цензуры нет — и никакого кино нет, и никакой литературы великой нет.
С шедеврами посложнее, да, стало.
Вот. В том-то и дело.
Хотя, вот знаете, мне кажется, литература сейчас появляется. Вот я долгое время тоже считал, что она чуть ли не закончилась, но потом вот Водолазкин, Юзефович. Сейчас вот Гузель Яхиной я прочитал «Зулейха открывает глаза». Марина Ахмедова, новый роман вышел. Ну, это замечательно, это русская литература настоящая.
Конечно, конечно.
Но сложнее наверное, да?
Но боюсь, что сложнее. И точно также почти в духовной жизни. Духовная жизнь, она тоже требует, чтобы тебя что-то дисциплинировало. Чтобы тебя что-то, ну, образно говоря, угнетало. Не случайно ведь очень многие вообще приходят к вере и приходят к Церкви в результате жизненных испытаний.
А что делать? Ну вот мы же не можем сейчас, условно говоря, молиться об изменении исторической ситуации, чтобы опять возникло государство, которое будет преследовать христиан. Это тоже ненормально.
Нет, нет. Конечно.
А как создавать тогда вот это «жало в плоти», о котором апостол Павел говорит? Откуда его, что делать человеку?
Вы знаете, вообще говоря, ситуация, так называемой свободы и так называемой демократии, она тоже создает свое «жало». Так что «жало» есть. Надо только его чувствовать. Надо его чувствовать. И на самом деле действительно, ну точно так же, как когда-то кто-то из наших святителей, по-моему Вениамин Федченков, говорил, что если бы не было гонения на Церковь в XX веке, может быть, она бы вообще перестала существовать.
Существовать.
А она просияла новыми мучениками и новыми исповедниками. А наоборот, к 17-му году она была в полном, вот как еще Достоевский сказал, в параличе, Церковь в параличе. То есть с этой точки зрения, действительно, внешние условия, внешние трудные условия, они как раз способствуют и прославлению, и духоподъемности. Но точно так же, как мне кажется, будет и в условиях так называемой свободы и демократии. Это не самое лучшее, что можно придумать на земле.
НАДЕЖДА
Вы прекрасно знаете церковную историю и вообще историю. Это знание истории, когда вы смотрите на то, что происходит сегодня, оно помогает вам с надеждой смотреть в будущее или все-таки это такой взгляд более пессимистический?
Пессимистический, вы хотите сказать?
Пессимистический, да. Нет, я спрашиваю.
Вот я хочу ответить как раз. Понимаете, опять-таки надо обращаться к тому же самому Новому Завету, к Евангелию. Разве в Евангелии или в апостольских писаниях кто-то обещал нам, что будет хорошо, что будет торжество православия, что будет золотой век впереди? Нет.
Нет.
Речь шла о том, что, наоборот, «не бойся, малое стадо» — будет трудно, будет мало и нас будет мало, и нам будет трудно. Вот. Но надежда заключается именно в том, что мы имеем возможность сохранить свою веру и сохранить свою надежду. Надежда — это как бы не количественное понятие. Оно качественное понятие. На что мы надеемся? Мы надеемся спастись. У нас передача «Спас» называется.
Да, да.
Вот. Мы спастись надеемся. И эта надежда, она нас не посрамляет. А надеяться на то, что будет все очень хорошо, в том числе, независимо от того, с нашей страной или с нашей культурой, или с нашей Церковью, ну это, так сказать, сложно. Вот об этом говорить сложно. Господь не завещал нам этого.
Вы как-то в одном интервью сказали, что разочаровались в читателе. Вы сказали: «Для серьезного аргументированного и документированного разговора, чтобы меня с пониманием выслушали и я мог бы возразить, возможностей не предоставляется. А приходить в залы и говорить какие-то слова и слышать в ответ шипение – это скучновато». Эти слова были сказаны где-то примерно лет 12 назад. Вот с тех пор надежды в этом смысле — в читателе, в слушателе — у вас прибавилось, стало меньше или вот разочарование на том же уровне?
Вы знаете в чем дело. Опять-таки, тут, наверное, надо различить качественную сторону и количественную. Вот. Не изменилось. К сожалению, ситуация не изменилась. Поговорить, даже вообще поговорить по-настоящему, всерьез становится по прежнему все меньше и меньше с кем. Вот настоящий, глубокий, серьезный разговор, независимо от того, богословский, на полном серьезе, философский или политический, практически не получается. Такой вот полемический лай на телевидении. Хоть на какую программу не включаешь, там взаимный полемический лай. Вот. И никакого серьезного разговора. И значит, соответственно, к сожалению, и читатель или зритель не готов воспринимать этот серьезный разговор. Наверное, ему будет скучно тебя слышать. Наверное. Может быть, он не готов к этому. Может быть, ты не умеешь с нынешним человеком говорить. Я с себя не снимаю ответственности. И наверное, и так тоже. Но, с другой стороны, надежда опять все равно остается. Потому что совсем вот недавно мы с матушкой Ольгой Гобзевой восстановили свою передачу на «Народном радио». Больше года у нас не было. Сначала я болел очень трудно в прошлом году, потом закрыли радио вообще. Вот сейчас открыли вдруг. И опять пошли звонки, и пошло желание людей слушать наши передачи. То есть люди ждут. Люди любят и русское слово, и православное слово, и вот когда с ними доверительно по радио или по телевидению говорят. Есть читатель и есть слушатель. Другой вопрос: почему вот я сказал тогда, что меня это разочаровывает, что он меня разочаровывает. Читатель есть. А вот он уже не успеет воспринять то, что он с удовольствием у меня воспринимает, но он… куда-то его… это применить в жизни уже не умеет. Потому что, например, действительно, скажем, в 90-х годах, я помню и вы может быть помните, когда я читал свои лекции в Политехническом…
Да. Конечно.
…залы были полны молодежью. А сейчас меня слушают по радио, опять сложилось так, как было раньше, в поздние советские годы: бабушки и, во всяком случае, люди старшего поколения. Они к серьезному разговору тянутся. Они любят и они хотят. А с молодежью не получается. И поэтому вот передачи, предания… вот что такое церковное предание? Это когда мы передаем следующему поколению, вот. Вот этого передания, предания не получается.
Но остается один, так сказать, исконно русский вопрос: а что делать-то? Мы же не можем сказать: «Ну вот видите, эти не могут, тут мы с языком немножко не поднаторели пока еще». Чего делать? Каким образом решать эту одну, другую, третью проблему?
Мы должны продолжать работать. Мы должны. И то, что, слава Богу, такие передачи, как ваша передача, как канал «Спас», как другие несколько каналов и некоторые передачи на радио, они продолжаются. Мы должны делать до конца, то, что называется, вот этот, так сказать, последний окоп. Мы — последний окоп. Когда старец Филофей в XV веке сказал про третий Рим, «Москва — третий Рим», он не имел в виду, что мы вот такой третий Рим, который завоюет опять весь мир. Нет. Он имел в виду, что за нами ничего уже нет. Мы — последний окоп. Но мы должны до последнего свое исповедание, свое служение совершать — и Богу, и Родине, и Церкви.
Николай Николаевич, а вот эта проблема языка, да, вот еще на ней чуть-чуть хотел бы остановиться.
Да.
Как по-Вашему, где граница, когда ты, меняя форму и стремясь быть понятым и понятным вот в этих новых реалиях, а сегодня это опять же для молодежи, если это визуальная культура очень часто, да. Вот скажем, у нас есть, я смотрю что делают многие православные сайты. Хотя там тоже говорят, что возвращается традиция, как сейчас их называют, лонгридов — больших текстов. Но вместе с тем появляются такие, как карточки, на которых там тезисы, буквально по одному предложению. Это легче воспринимается и так далее. Вот где граница допустимого, профанации? Я понимаю, что общий вопрос, сложно наверное сказать, но все-таки. Ведь это тоже важно. Ведь не все можно сказать в каких-то там визуальных формах без потери смысла.
Есть конечно. Конечно, переходить на такой вот совершенно современный телеграфный стиль, как по телевизору, нельзя. Этого нельзя выразить. По-настоящему каждое содержание, как когда-то Гегель сказал, всякое содержание требует своей формы.
Формы, да, да.
И форма тоже формирует содержание. И это действительно глубоко и правильно. На самом деле не всякое содержание, в том числе религиозную проповедь, например, можно передать через любую форму. Вот в газетных формах, газетным языком или вот этим современным телевизионным рубленым стилем — невозможно. И тут дело не в том, что мы не умеем обращаться к современному читателю. Нет. Мы должны все- таки ставить вопрос и как-то уметь попытаться переломить ситуацию, чтобы все-таки читатель и слушатель возвращался к умению читать и слушать. Один немецкий философ в 30-х годах издал книгу — что такое человек. Человек —- это слушатель Бога. Вот слушателем он должен быть. А если он не умеет быть слушателем, надо пытаться его восстановить, починить, полечить его слух. Как вот ухо-горло-нос бывает, вот значит ухо, горло, нос надо полечить. А не поддаваться тому, что: ага, вот им больше нравится это лай-лай-лай, и мы будем давайте так.
Давайте так.
Нет. Так нельзя. Мы не сможем свое содержание сохранить и передать. В том числе, предание Церкви перенести вот так и передать мы не сможем.
ТЕРПЕНИЕ
Следующая наша тема — это терпение. Вот Оптинские старцы в этой молитве, когда говорят о терпении, просят о терпении, ну, видимо, имеется в виду смирение как добродетель. А вот смирение — это какое-то особое терпение?
Вообще-то смирение в древнерусском языке писалось через «ять» — смерение. То есть это то, что святые отцы называли — знание своей меры. Вот те же самые Оптинские старцы, если у них спрашивали некоторые вопросы, в том числе самые что ни на есть богословские, а он отвечал: «Это не моей меры». То есть смерение — это знание своей меры. И терпение — это тоже с этим связано. И Господь… вот то, что мы говорим, что Господь не дает, не дает нести больше, чем ты можешь терпеть.
Сверх меры, да, сверх меры.
Больше, чем ты можешь вынести. Поэтому с этой точки зрения, конечно, опять-таки и смирение, и терпение — это категории, если угодно, умного делания. Это действительно не случайно в Оптинской молитве все это присутствует. Это не просто там вот тебя стучат, стучат, стучат, а ты все терпишь и терпишь, и терпишь.
И терпишь, да.
Не в этом дело. Дело заключается в том, что ты в свою меру воспринимаешь и боль мира, и правду мира. И вот больше своей меры ты даже и правды внять не можешь. Нельзя брать на себя больше, чем ты можешь понести. И вот с этой точки зрения иерархичность христианского сознания и христианского служения, оно ведь не случайно так, что каждый своей мерой, каждый на своем месте. Патриархи друг о друге говорят: «Наша Мерность». Другое дело, что некоторые своей мерности не знают. Как недавний, так сказать, опыт наблюдаем.
А вот все-таки, скажем, обыватель, слыша о христианском смирении, о терпении, не думаю, что сразу входит в понимание того, о чем вы сказали сейчас, а скорее воспринимает смирение как слабость. А мы скорее говорим о том, что это сила. Вот эта сила в чем, именно в знании меры?
Это все входит в понимание того, что святые отцы называли трезвением, трезвостью. Вот трезво воспринимаешь всё. Трезво воспринимаешь мир. Трезво воспринимаешь свое счастье и свое несчастье. Трезво воспринимаешь обстоятельства своей жизни. И трезво воспринимаешь свои задачи.
Угу.
То есть действительно человек не может… вот что такое терпение по отношению к миру, помимо всего? Это умение реагировать на него.
Вы просто начали отвечать на мой следующий вопрос. Да, вот это же не означает терпение, скажем, ко греху?
Нет конечно. В том-то и дело. Нельзя же терпеть греха и нельзя себя терпеть в этом грехе на самом деле.
То есть терпение как умение реагировать, вы сказали, да?
Конечно, конечно. В том-то и дело. И с этой точки зрения, собственно говоря, почему страстотерпчество, оно как бы является спасительным действом. Потому что, действительно, стерпеть эти вот страсти, страдания…
Страдания.
…страдания терпеть — это тоже великое умение и великое искусство с точки зрения святоотеческого добротолюбия.
Угу.
То есть, действительно, с этой точки зрения мы… только это и дает нам возможность терпеть все, что мы видим. И плачем, и вздыхаем, но тем не менее несем свой крест.
Николай Николаевич, а вот мы говорим часто, что мы должны, христиане должны понимать и дифференцировать грех, поступок и человека, грех и грешника.
Да.
И вот эта ненависть ко греху, ну, может быть, единственная ненависть, которую мы можем испытывать, ну поправьте меня, если это не так, она никогда не должна распространяться на человека, да. Но тем не менее к греху отношение должно быть непримиримым. Это ведь такие тонкие материи. Тут, с одной стороны, ты можешь просто говорить: «Ну это вот, я же вот просто люблю человека. Конечно, он плохо поступил...» — и бездействовать, да. А с другой стороны, наоборот, ты можешь свою, как тебе кажется, ненависть ко греху переносить на человека. Вот как этому научиться? Это тоже терпение, то есть тоже знание меры какой-то?
Это тоже знание меры. И более того, тут, в общем-то, тут неоднозначно, тоже неоднозначно все прописано даже и у святых отцов. Вспомним знаменитую формулу митрополита Филарета, святителя, который сказал: «Люби врагов своих. Ненавидь врагов своей страны и своего государства. И гнушайся врагами веры» (Подлинные слова Святителя таковы: "Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте врагов отечества, любите враги ваша. Аминь." Источник. - Прим. ред.).
Гнушайся.
Вот в чем дело. То есть на самом деле любить еретиков и любить ругателей веры и ругателей твоей Родины и твоей страны — это не терпение, это слабость действительно. Это отказ, это предательство, если угодно. Он будет поносить мою Родину и мою Церковь, а я буду все терпеть и говорить: «Да, ну надо его любить. Он такой».
Хороший человек в целом.
«В целом хороший», да. Нет, вот не бывает в целом хороший. Вот святитель Филарет учил тому, что не в целом хороший. Вот надо любить врагов твоих, когда это действительно твои враги — можешь любить.
Ну как говорят: личные.
Да. Можешь любить или прощать. А вот относительно того, что это враги твоей земли, твоей Родины — это уже другое. А враги Церкви и враги веры — это уже третье. И что же мы будем всех бесов и всех бесноватых, всех будем терпеть, чтобы они, так сказать, пришли и сели нам на шею. Нет, это нам не заповедано.
Не заповедано. Но здесь же это же тоже не означает такой установки на какую-то, ну я не знаю, на уничтожение врага, да. То есть не любить и не соглашаться с тем, что говорится. Но это же не закрывает даже возможность какого-то общения, может быть. Или закрывает?
Вы знаете, вообще, не надо брать на себя ответственность больше своей меры.
Вот, да, да.
Вот не надо. Понимаете, Господь разберется. Если Господь не благословил, чтобы этот человек пришел в разум веры или пришел вообще в трезвое понимание чего-то там и раскаялся бы в своих грехах и в своих ошибках, вот, если Господь этого не благословил, то ты тоже благословить этого не можешь.Почему я и говорю, что действительно все должно быть в рамках святоотеческого учения о трезвении. Трезвение — это и есть и различение меры, и различение духов, и различение того, что надо, от того, что не надо. Безусловно. Потому что, конечно, можно впасть в худший грех, борясь с грехами.
Да, да, да (смеется).
Вот это, это совершенно, это спокойно. Я это видел. И в том числе люди духовные. Но они на этом могут тоже поскользнуться. И так называемое младостарчество…
Да.
…и лжестарчество всяческое, оно на этом и поскальзывается.
ПРОЩЕНИЕ
Прощение — следующая тема, Николай Николаевич. Тоже непростая такая. А себя христианин может, должен прощать или не прощать? Вот к себе здесь какое отношение, как вы думаете?
Это сложный вопрос, конечно.
Ну старался хоть один сложный вам вопрос задать.
Да, да. Конечно. На самом деле, на самом деле тут опять нужно, доверять своей вере, вот так вот я бы сказал. Доверять своей вере. Если ты, покаявшись, попросив прощения и перед ближним, и перед Богом, и в покаянные дни нарочитые, в покаянные дни, и в прощенные дни… И если Господь не, как сказать, не требует вот такого вот самоедства и совести твоей неспокойной, значит и ты не топчись на грехах. Отцы тоже любят говорить: «А что ты топчешься все на одних и тех же грехах. Да ты мне в прошлый раз это говорил. Я тебе уже отпустил этот грех. Что ты мне опять с ними приходишь?» Вот что это такое? Должен я себя простить или нет? Да конечно, должен простить. Вернее, должен принять благодарно прощение, которое Господь через священника, через духовника или через твою молитву тебе посылает. Ты должен принять и это прощение тоже.
А вот такой… часто в теме «Прощение», когда говоришь и я слушаю, много смотрю какие-то, читаю интервью, беседы, очень часто человек говорит, когда у него спрашиваешь: «А что вы не можете простить?», мне говорят: «Предательство». Ну вот у нас, вот скажем, обычно, конечно, когда мы Евангелие читаем, у нас Иуда обычно — образ предателя. Но, в общем-то, и Петр предал, отрекся, но и многие другие апостолы, собственно, на Голгофе, кроме Иоанна, никого не было.
Все разбежались.
Все разбежались. Но они же все прощены. То есть Господь предательство простил?
Конечно.
Простил.
Конечно.
И мы должны тогда прощать?
И мы должны. Если действительно это предательство касалось больше тебя, чем того, что выше тебя.
Да, да, это я понимаю.
Вот в чем дело.
Нет, я говорю именно в плане там дружеских отношений, семейных каких-то.
А так конечно. Даже у меня так было. Да, было так. Друг меня предал. А потом пришел, попросил прощения, и я его простил, совершенно искренне. И восстановили с ним дружеские отношения.
А вам, вот если вы позволите личный вопрос, а вам что тяжелее всего прощать?
Тяжелее всего прощать.
Если вообще у вас есть проблемы с этим. Может быть, вы легко прощаете.
Вы знаете, вы знаете нет, тяжелее всего прощать людям неблагородство, неблагодарность и неисцелимую глупость. Вот это труднее всего простить.
Ну глупость же...
Они, может быть, даже и не виноваты в этом. Но как-то вот душа не поворачивается все это простить.
Николай Николаевич, но глупость — это же не грех.
Сложный вопрос. На самом деле именно в силу того, как мы с самого начала с вами начали выстраивать вот эту лествицу восхождения через трезвение…
Да.
…через раз различение духов и так далее, то я не имею в виду, что глупость в смысле необразованности…
Необразованности, да.
…или чего-то. А я имею в виду, что вот…
Вот в этом смысле.
По-настоящему-то глупость, конечно, — это грех. Так же, как и болезнь. А болезнь — это грех или не грех?? Ну конечно, это грех.
Болезнь, это вы имеете в виду физическую болезнь?
Любой, любая, любая болезнь: и физическая, и духовная. Потому что вообще-то Господь создал нас здоровыми и для жизни, и для преуспевания, и для служения. А если ты где-то растратил свое здоровье на мелкие грехи, вообще-то говоря, или недостаточно заботился о твоем, о твоих дарах, которые тебе Господь даровал, духовные или физические, то, конечно, ты греховен уже тем самым. Поэтому с этой точки зрения болезнь и грех, они, как бы сказать, вот Лаокооновы змеи, они нас одинаково окружают. То есть, что, действительно, грехи способствуют нашим болезням, а болезни способствуют…
Способствуют.
…нашим грехам, конечно. Это, конечно, грех все равно.
А вот здесь, это, может быть, даже к другим темам относится, но я все-таки спрошу, это очень важно, мне кажется, мы не коснулись этого. А вот воля в вере, да, вот во всем, во всем этом выстраивании, она ведь очень большую роль играет. Ты можешь даже вот размышлять над Евангелием, получать какое-то удовольствие интеллектуальное или даже, может быть, сверхинтеллектуальное, а потом идти и совершать то, в чем ты 20 лет уже сидишь.
Конечно. Конечно.
Это вопрос воли?
Конечно.
Благодати? Вопрос чего это?
Воля и благодать… тут, понимаете, на самом деле благодать Божья, она, как мы знаем, действует принудительно. Вот. То есть она выполняет некую воспитующую и дисциплинирующую силу. То есть без благодати Божией мы не можем строить своего спасения и в том числе на правильный путь себя, свою душу направлять. И душу, и тело. Но воля, конечно, имеется в виду не воля на все четыре стороны, понимаете, да. О, как некоторые Евангелие, место из Евангелия тоже говорят: «вот, Господь заповедовал свободу». Да он не свободу заповедал, а для того чтобы в любом состоянии, в любом состоянии духовном ты был свободен свободой сынов Божьих. Свобода сынов Божьих — это не свобода гулёны. Вот ведь в чем дело. Поэтому с этой точки зрения воля, конечно, должна присутствовать. Она главная. А именно, именно она воспитывается настоящим, правильным христианским воспитанием.
ЛЮБОВЬ
Сегодня, если мы возьмем, ну я вот подчеркиваю, условных консерваторов и условных либералов, потому что здесь я не сам люблю все эти деления, они всегда, так сказать, человек сложнее и прочее. Ну вот есть такая дискуссия, я обращал на нее внимание, когда каждая из сторон обвиняет другую в том, что они слишком вольно трактуют Евангелие и у них чуть ли не свой Бог. И вот одно из обвинений, скажем так, условных консерваторов в сторону условных либералов в том, что понимание важнейшего евангельского тезиса «Бог есть любовь», оно искажено, в том смысле, что вот раз Бог есть любовь, значит, он не наказывает, Он не карает за грехи, не посылает болезни, что все это во многом метафоры, связанные с временем, языком и так далее. Вот вы что думаете по этому поводу?
Нет конечно. Любовь — это самое жесткое и требовательное, что есть вообще в мире. Самая настоящая любовь.
Это как?
Это потому, что на самом деле вот если Господь, мы говорим даже: когда Господь нас любит — это значит, Господь требует от нас выполнения Заповедей Божьих, причащения к Нему через таинства церковные, пребывание к Нему в сердечной и мысленной, и в единении. То есть на самом деле это все время требования. Господь не распускает нас: идите куда хотите и занимайтесь, что хотите, Я вам все прощу. Господь никогда этого не говорит. Точно так же, как никогда этого не говорит хорошая мать. Она воспитывает. И настоящий отец, он воспитывает. И это вот воспитание — это и есть, если угодно, оборотная сторона любви, вот как бы жесткость любви. Любовь, да, любовь, она жесткая. Она бывает жестока даже.
Жестока?
Она бывает даже жестока. Она может нам казаться именно жестокой. Потому что она требовательна. Она требует что-то, чтобы мы чем-то пожертвовали ей. Любовь — это всегда самопожертвование. Любовь — это всегда самоотверженность. А если мы говорим слова «самопожертвование» и «самоотверженность», значит, уже где-то недалеко прозвучат и такие вот тоже библейские слова, как жесткость и жестокость. Потому что на самом деле, действительно, нам иногда не хочется расставаться с тем, с чем мы должны расстаться, чем мы должны пожертвовать нашей любви и нашей любимой. Мы должны пожертвовать чем-то. Мы не только пришли в мир, чтобы брать. Мы должны давать. Вот это вот умение давать, а не только принимать и брать, вот это очень важный момент. И тут действительно это довольно жесткая линия. Если ты не умеешь давать, то ты не жди и любви. Ты недостоин этой любви.
А нет ли здесь вот такого, знаете, все-таки того, что один философ назвал человеческим, слишком человеческим — по другому поводу, но в нашем восприятии. Ведь даже эти наши сравнения Бога с любящим Отцом или вы вот сейчас сказали: мать, да, ведь все-таки разве можем мы себе представлять Бога, ну просто вот, получается, как некого человека, ну только вот сверх, сверх, да. То есть у Него те же мысли, а Он нам говорит: «Мои мысли не ваши мысли. Мои пути не ваши пути». Нет ли здесь какой-то все-таки в этом представлении, которое вы сейчас так прекрасно описали, такой линейности, да: вот наказывает, построил, дал заповеди? Ведь Новый Завет, он все-таки там по-разному нам об этом говорит.
Сказать совсем честно?
Конечно. Желательно, да.
Да. На самом деле любое богословское суждение, любое философское определение — это всегда о-пределение. То есть всегда действительно ограничение. Конечно, все наши суждения ограничены. Все наши толкования и понимания, все ограничены. Мы, конечно, не должны антропоморфно воспринимать Спасителя и Бога Отца как мы представляем самого хорошего и самого строгого отца-человека или мать. Но, с другой стороны, это ведь тоже не я придумал . Это ведь тоже библейское понятие «благоутробие Божие». А что значит благоутробие? Это материнское начало. Даже именно не отцовское, а даже материнское начало.
Материнское.
Благоутробие. То есть действительно вот все то, что я сказал — это да, допустим так, что, может быть, я с некоторым обострением что-то сказал. Но, во всяком случае то, что я сказал, все это да, все это тоже имеет право на существование. И это все есть в мире. Но все это смягчено и обволакивается как бы вот этим благоутробием.
Благоутробием.
Божьим. И вот для этого нам даны святые старцы, которые действительно вот так вот, как преподобный Серафим каждого встречного и в каждый день года встречал: «Христос воскресе, ваше боголюбие». Да, конечно. Но, при этом посмотрите и вспомните насколько жёсток был тот же преподобный Серафим в своих требованиях к себе и ближнему. Когда нужно было приказать монахине умереть за ее брата, он же не остановился ни секунды.
Да, такой удивительный пример очень.
Удивительный.
Сложный такой.
А это тот самый что ни на есть благообразнейший, наиболее всего близкий к этому благоутробию, почему мы говорим: преподобный, то есть в максимальной степени подобный вот этому Божьему благоутробию, преподобный Серафим.
А вот любовь к Богу и любовь к человеку, как они связаны? Вот у меня была гостья в программе. Она сказала, что: я сначала полюбила Бога и для меня открылась эта любовь к Богу, мир веры. И потом вот этот этап к этим вот всем тут рядом он не просто происходил. Такая была последовательность. Но ведь Евангелие нам о другом говорит. Апостол Иоанн в Первом послании говорит, что как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь брата, которого видишь.
Если ты ближнего не любишь. Конечно.
Вот здесь как, по-разному бывает или как? Как вы думаете?
Это бывает по-разному. К сожалению, за счет того, что у человека, у него, так сказать, как бы сильно… у некоторых людей сильно превалируют… мыслительные представления. То есть, действительно: сначала я подумаю, а потом я сделаю. На самом деле это не так. На самом деле нужно делать. Мы не думаем перед тем, как сделать что-то доброе окружающим или исполнить свой долг, церковный долг какой-то там и так далее — мы делаем. И даже, более того, иногда сначала нам этого не хочется делать. Нам трудно пойти в церковь, трудно отстоять всю трехчасовую службу и так далее. Но мы себя понуждаем. И благодать, как я уже сказал, начинает принудительно действовать. И вот с этой точки зрения отделить любовь к Богу и любовь к человеку, я, в общем-то, не думаю, чтобы можно было. Яне верю, что возможна любовь к Богу, если ты не любишь человека. Я думаю, что это невозможно. Это иллюзия. Это интеллигентская интеллектуальная схема, интеллигентская иллюзия. На самом деле значит ты и Бога не любишь, если ты не способна сначала, или не сначала, а параллельно, скажем так, полюбить также и своих ближних.
Я сейчас вас слушал и вспомнил этот замечательный диалог в «Братьях Карамазовых» Алеши с… Коля Красоткин, по-моему, когда он говорит: «Ну Вольтер же не верил в Бога, но любил человечество». И Алеша ему говорит: «Вольтер, кажется, очень мало верил в Бога и поэтому очень плохо любил человечество».
В том-то и дело.
Вот об этом.
Точно так же, точно так же. Если Бога не любишь — и человека не любишь. А если человека не любишь, то и Бога… подняться и взойти к любви к Богу, к Божьей любви, это невозможно. Хотя бы даже для того, чтобы в библейском смысле, что ты должен возлюбить ближнего так же, как самого себя. То есть опять-таки все равно через человеческую природу нашу. Наша любовь к Богу, она через человеческую природу нашу осуществляется. Именно потому, что Бог даровал нам право чадами Божьими быть, из того же Евангелия от Иоанна.
Николай Николаевич, а вот раз мы об этом вспомнили, вы вспомнили любовь к себе, ведь часто люди спотыкаются на этом, на этой заповеди. Причем в разные стороны спотыкаются: как можно себя любить, как можно себя не любить и так далее. Вот любовь к себе — это что?
Любовь к себе — это трезвое отношение к себе как к рабу Божию, как к чаду Божию, как к чему-то… ну вот, если угодно, вы тут однажды уже Ницше немножко процитировали. Я второй раз процитирую: «Нечто, что должно быть преодолено». Вот преодоление, да, наше человеческое, в христианском нашем делании мы преодолеваем «человеческое, слишком человеческое». Но при этом, конечно, без человеческого, без этого и без его преодоления нету и лествицы, по чему взойти. Если нет лестниц, по чему взойти?
У нас в финале, я вам говорил, хочу вас попросить поставить точку вот в таком предложении. Не знаю, сочтете ли вы его корректным, но тут любой комментарий приемлем. Мы, как мне кажется, забываем часто о том, что святость — это то, к чему мы призваны, да. И это, если угодно, — поправьте меня, если не так, — это норма христианской жизни. Вот то, что нормально. Но как-то вот сказать: «Я хочу быть святым», вот так не сразу язык поворачивается. И вот какое должно быть отношение к этому у человека? Вот в предложении «Стремиться нельзя остановиться», вы бы где поставили точку? К святости. «Стремиться нельзя остановиться».
Стремиться. Точка.
Точка.
Нельзя остановиться.
Нельзя остановиться. Спасибо! Это был Николай Николаевич Лисовой.