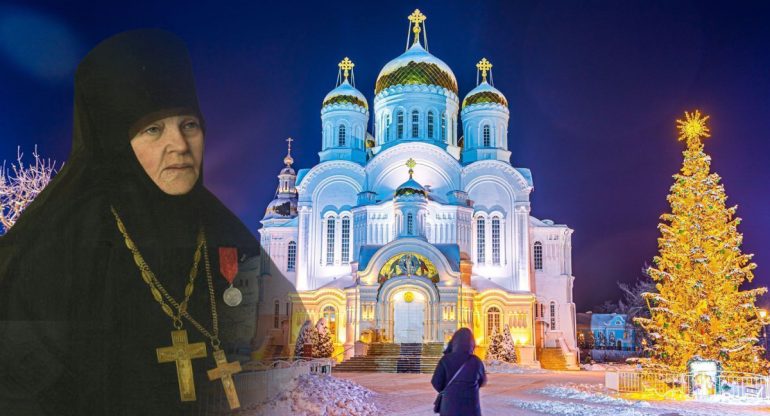27 февраля 1917 года на продуваемую злым ветром Тверскую улицу (питерскую Тверскую, не путать с ее московской тезкой!) вышел из своего дома депутат Государственной Думы, присяжный поверенный Александр Федорович Керенский. Дверь с тяжелыми хрустальными стеклами грохнула у него за спиной, как зубами клацнула, словно хотела укусить. Керенский покосился на величественное привидение Смольного собора, висевшего в воздухе над марлевой завесой позёмки, а потом решительно повернулся в другую сторону, лицом к неразличимому отсюда Таврическому дворцу, и поднял воротник своего щегольского, негреющего пальто… Всего час тому назад ему позвонили оттуда, и дрожащий голос произнес долгожданное, заветное:
— Началось!

Социальный шторм, который все предвкушали с таким лихорадочным нетерпением, который в упоении звал горьковский Буревестник, наконец-то действительно обозначился на горизонте. Нескольким сотням образованных людей удалось-таки раскачать лодку Империи, привести в движение косные массы. Очень скоро воспетая ими Революция сметет их всех, одного за другим, раскидает по планете, как чудовищное цунами, кого-то и проглотит; а они-то рассчитывали в охотку попрыгать на волнах!
Так и тянет в ущерб документальности и научности воспользоваться киношным приемом: на мгновение остановить кадр, с разных сторон показать застывшую сцену с одинокой черной фигурой, дать зрителю и самому герою насладиться драматическим моментом, оценить его по достоинству… По-режиссерски кричу в мегафон:
— Внимание, Александр Федорович! Это — самый, самый главный, роковой, поворотный момент вашей жизни! Дверь, что захлопнулась только что за вашей спиной, уже никогда не откроется! С вашей семьей — женой, красавицей Ольгой, и мальчишками, Олегом и Глебом, — вы никогда больше не будете вместе! Ни к ним, ни в квартиру эту вы не вернетесь. Более того: само это казенное жилище, предоставленное вам государством как депутату, станет для вас последним собственным домом…
Нет, не слышит… слишком громко свистит в ушах разбойный февральский ветер с Невы.
Ему предстоит несколько следующих дней кое-как ночевать на сдвинутых креслах; потом несколько месяцев маяться в квартире министра юстиции с царскими портретами по стенам, в обществе скорбной жены арестованного предшественника, а потом ненадолго поселиться в великоватых для его щуплой фигуры царских покоях…
А дальше — полвека скитаться, искать себе пристанища, расписываться в книгах для постояльцев недорогих отелей, уповать на щедрость женщин и случайных благотворителей — и повсюду, ото всех слышать в свой адрес одни упреки и проклятья…
Убить царя
Биография этого уникального человека, первого и последнего «президента» так и не провозглашенной Российской Республики, сегодня, можно сказать, малоизвестна*. А ведь он взлетел бесстрашным сёрфингистом на самый гребень революционной волны: женщины кричали от ужаса и восторга и швыряли к его ногам свои драгоценности, мужчины злились или завидовали. На виду у всех он проделывал головокружительные трюки, что называется, «откалывал номера»: к цепочке этих отчаянных, с риском для жизни проделанных «номеров» и свелась вся его бешеная политическая карьера. Краткие мгновения славы, а потом — затяжная расплата: предательство союзников и выдвиженцев, злые и прилипчивые сплетни, полвека скитаний, забвение на родине и остракизм в среде русской эмиграции. И в конце — унизительная старческая немощь, мучительная смерть, запрет на погребение в земле православных погостов и могила на лондонском кладбище «для лиц без вероисповедания».
Конечно, всем этим он обязан в первую очередь особенностям своего характера. Пылкий, нетерпеливый, всегда тяготевший к крайностям, он и в более спокойные времена едва ли остался бы безвестным. Но ему выпало жить в эпоху, когда «невозможное стало возможным»; когда яркий поступок, вовремя брошенное огненное слово весили больше, чем годы упорного труда или профессиональные навыки. Керенский был медиаперсонажем, опередившим время и развитие техники: говорят, если бы в годы его славы существовало телевидение, он правил бы Россией до конца своих дней… Но революционные матросы, ловившие его в 1917-м в коридорах Гатчинского дворца, телевизор не смотрели.
Саша Керенский родился 22 апреля (по новому стилю — 4 мая) 1881 года, через месяц с небольшим после зверского убийства Александра II Освободителя. Царская тема пройдет через всю судьбу Керенского. Через 13 лет учеников Ташкентской гимназии выстроят в широком коридоре, чтобы сообщить им трагическое известие о смерти императора Александра III. Скорбное благообразие мероприятия будет нарушено происшествием: один из гимназистов, услышав о смерти Самодержца, лишится чувств, драматически упадет в обморок на глазах у всех. Надо ли говорить, что гимназистом этим был Саша Керенский, сынок директора гимназии?
Пройдет совсем немного лет, и тот же самый чувствительный юноша, Александр Керенский, сам предложит себя подпольщикам-террористам в качестве цареубийцы: он будет искать контакта с эсерами, чтобы поучаствовать в покушении на жизнь Николая II. Но опытные и проницательные бомбисты из партии «социалистов-революционеров», познакомившись с Керенским и рассмотрев его вблизи, признали адвоката непригодным для столь серьезного дела.
И тем не менее именно Керенскому суждено в феврале 1917-го в качестве министра юстиции Временного правительства арестовать царскую семью, открыв тем самым для пяти невинных детей путь на Голгофу. Впрочем, в те дни Керенский будет публично клясться: «Я лично посажу их на пароход!»… Но тут же в легкомысленном разговоре с единомышленниками при упоминании о царе он сделает многозначительный жест, проведя указательным пальцем поперек шеи — и беспечно заметит, что Революция требует этой жертвы… Цирковая гибкость политика: говори одно, думай другое, делай третье.
Когда в далекий Тобольск к царственным узникам долетит — с большим опозданием — весть о свержении Керенского, государь с необычным для него сарказмом усмехнется:
— А он говорил, что народ так любит его…
Насмешка Ильича
Биография скромного и провинциального присяжного поверенного, которому суждено было стать первым демократическим самодержцем России, причудливо переплелась не только с судьбой его венценосных предшественников, но также и с судьбой политического преемника, Владимира Ленина.
Они родились в одном и том же городе, Симбирске; отцы обоих служили по линии народного просвещения. Федор Керенский забрался по карьерной лестнице выше Ильи Ульянова — и впоследствии оказывал детям земляка весьма ощутимое покровительство. Вот что будет позже говорить об этом сам Александр Керенский:
«Состоялось знаменитое покушение на жизнь императора Александра Третьего. Старший Ульянов, Александр, принимал участие в этом покушении и был казнен. И когда Владимир, второй сын, закончил школу, гимназию, ему было сложно поступить в университет. Тогда мой отец написал документ, в котором рекомендовал Владимира Ульянова как образцового ученика. Благодаря этому он смог получить образование, поступить в университет».
Хочется сделать на полях истории жирную отметку, поставить восклицательный знак: государственный чиновник довольно высокого ранга, Федор Керенский, дает отличную рекомендацию брату казненного государственного преступника, по нашей сегодняшней терминологии — террориста! И тем самым обеспечивает Владимиру Ульянову социальную адаптацию, наилучшую из возможных — выписывает ему, пользуясь советским клише, «путевку в жизнь».
Александр Керенский, вопреки расхожему мнению, с будущим «Лениным» практически не общался. «…У нас не было непосредственных контактов, — объяснит он позже, — потому что он был старше лет на десять. Даже на двенадцать. Но я в детстве был знаком с его матерью. Его отец умер, когда я был совсем маленьким…»
Впрочем, в решающий момент Александр Федорович спасет Владимира Ильича: в июльские дни 1917-го Керенский, будучи министром юстиции, своевременно предупредит Ульянова о предстоящем неминуемом аресте по обвинению в сотрудничестве с неприятелем (немцами); а ведь в жизни революционера, как известно, главное — это вовремя смыться…
Дважды спасенный Керенскими, отцом и сыном, вождь мирового пролетариата по-своему «отблагодарит» земляка: не без его ведения возникнет и пропишется в истории миф о бегстве Керенского, переодетого в медсестру, из Зимнего дворца. Эта нелепость станет настоящим кошмаром, сопровождавшим Керенского буквально до последнего вздоха.
Генрих Боровик, встречавшийся с ним в 1966-м, вспоминает:
«Он прямо закричал: ну скажите вы там, в Москве — ну не бежал я, переодевшись женщиной! Ну, есть же там у вас умные люди!»
Впрочем, «не все так однозначно»: и переодевание, и бегство все же имели место, но не там и не тогда. Чуть позже, пойманный в ловушку в Гатчине, Керенский избежал неминуемой выдачи на расправу, переодевшись в матроса и благополучно проскользнув мимо революционного сброда, заполнившего Гатчинский дворец — родной дом того самого императора Александра III, при известии о смерти которого он в детстве упал без чувств…
Блеск и ужас Петербурга
Пора бы вспомнить, однако, что пока мы «растекались мыслию по древу», Керенский стоял там, где мы его оставили: на пороге собственного дома. И для него — все еще утро 27 февраля 1917 года. Оживим наш стоп-кадр, приведем в движение кинопроектор истории. Поднимемся выше колокольни Смольного собора, выше низких февральских облаков; не претендуя на глубину и полноту, окинем беглым взглядом общий расклад сил и действующих лиц. Итак, покуда есть еще русский царь, занятый войной, армией, подготовкой весеннего наступления (имевшего все шансы стать победным); есть огромная страна, напрягающая все силы перед лицом страшного и кровавого испытания; и — отдельно — есть блистательный Петербург, столица империи: великий город живет своей собственной жизнью.
Тут стразами сверкают и переливаются поэты и художники Серебряного века — великие имена будущей всеевропейской славы нашего Отечества… Тут трудится в красивейших дворцах неспешное консервативное правительство; его составляют квалифицированные, но не самые решительные люди России… А еще тут бурлит и пенится пестрая «общественность»: в ресторанах и актовых залах, в курительных салонах и на благотворительных вечерах она во всеуслышание называет правительство «бездарным» и требует немедленно, прямо в разгар войны допустить к рулю государства их самих, честных и талантливых…
А между тем по страшным питерским подворотням шныряют немецкие шпионы, в тиши кабинетов плетет кружева британская разведка, ездят по фабрикам и заводам агитаторы-марксисты. И томятся от безделья в казармах тысячи, десятки тысяч солдат запасных полков, прижившихся в городе с его соблазнами и утехами, готовых отдать душу дьяволу, лишь бы избежать отправки на фронт.

И над всем этим взбаламученным морем возвышается круглым куполом Таврический дворец, Четвертая Государственная дума, собрание «народных представителей» — тех самых, которые, как говорилось в царском указе, призваны помогать исторической наследственной власти вести русский государственный корабль по бурным волнам истории.
Кого они «представляют», эти «представители»? Вот, Керенский, например, был избран в Думу от города Вольска, в котором никогда не бывал. Но разве это важно? Важно день за днем бросать в лицо власти страшные обвинения, которые даже доказывать не нужно — власть виновата по определению, а ее обвинитель автоматически становится «лучшим человеком страны»!
Эту нехитрую механику Керенский постиг еще в 1912-м, когда — именно как неподкупный представитель «общественности» — прибыл для расследования трагических событий на Ленских рудниках. Там в результате стечения обстоятельств и неловких действий местной администрации погибли рабочие. Правительство направило к месту происшествия специальную комиссию; но не дожидаться же, в самом деле, результатов расследования! И вот в Иркутскую губернию буквально прилетает на крыльях праведного гнева молодой и пылкий Керенский и, поселившись напротив сенатора Манухина, руководителя правительственной комиссии, начинает строчить ежедневные разоблачительные фельетоны в столичные газеты. Кто помнит трудягу Манухина, кропотливо изучавшего факты, помогавшего пострадавшим и их семьям? Никто. А вот Керенский успешно «оседлал волну»: она поднимет его на такую высоту, что он без труда шагнет из своей полубезвестности в Государственную думу, в революцию, в портретную галерею истории.
Тенора революции
Справедливости ради надо сказать, что в величественном зале заседаний Таврического дворца Керенский поначалу выглядел довольно бледно. «Он всегда слишком нервничал. Не без основания его называли неврастеником, — вспоминал его первые выступления депутат Демьянов. — Он обладал громким и излишне резким голосом, в речах его всегда слышались высокие крикливые ноты. Он никогда не говорил спокойно, и это слушателей иногда раздражало. Вообще, слушать его было довольно тяжело». Это потом его красноречие будет всеми признано; он даже «удостоится» сравнения с Гитлером по силе воздействия на слушающих. А пока он «на подпевках» влился в ряды многочисленных крикунов и демагогов, которых современник едко назвал «тенорами революции». Бородатые и лысые, безупречно одетые, вкусно поевшие в прекрасном думском буфете, они сменяли друг друга на трибуне, соревнуясь в смелости, которая ровно ничего не стóила: премьер Столыпин, вызвавший на дуэль «потерявшего берега» депутата, давно убит, а других охотников поставить думских краснобаев на место не предвиделось.

Однако в этих залах и коридорах не просто упражнялись в краснобайстве: невидимая постороннему глазу, здесь шла напряженная подготовительная работа к захвату государственной власти. И наш Керенский, внук священника и сын одного из столпов русского просвещения, делая самые первые шаги по всероссийской политической сцене, вступит во влиятельный клуб, который окажет на его дальнейшую карьеру самое решительное воздействие. Таким клубом было политическое масонство. Позаимствованное в Европе вместе с прочими «плодами Просвещения», это тайное общество если когда и было, как нас уверяют, прекраснодушной организацией гуманитариев, давно перестало ею быть. Трактаты Новикóва, полные символов архитектурные проекты Матвея Казакова, рыцарские обряды, покорившие сердце самого императора Павла I, остались в XVIII веке.
К началу ХХ века масонские ложи превратились в тайные кружки круговой поруки, в кузницы карьеры, немного похожие на закрытые и престижные «студенческие общества» американских университетов. Трудно поверить беспечности и толерантности самодержавия: в стенах важнейшего из государственных учреждений почти официально, без помех функционировала ячейка этой весьма своеобразной организации — строила планы по захвату власти, формировала списки будущего высшего звена государственного управления, терпеливо, с клетки на клетку, продвигала своих и задвигала чужих. На первых этапах революции расчет масонских закулисных технологов блестяще оправдался: первое Временное правительство было практически сплошь масонским. Кто их выбрал, кто назначил, уполномочил принимать непоправимые решения с далеко идущими последствиями? Неужели — темная закулиса, тайные общества, резиденты зарубежных разведок? Или взбаламученная, неграмотная революционная толпа, охотно голосовавшая за того, кто крикнет громче, выкинет самое неожиданное коленце?
К началу 1917 года Керенский уже давно не был рядовым членом ложи: он удостоился титула ее генерального секретаря! Это запоминающееся словосочетание еще не раз всплывет в новейшей истории нашей страны.
Ставка на пиар
И все-таки вплоть до утра 27 февраля он оставался «одним из…» — представителем думской массовки. Показательно, что государыня императрица, возмущаясь в письме мужу наиболее дерзкой из речей Керенского, называет его Кедринским — настолько эта фамилия не на слуху. Могла ли она знать, что совсем скоро этот самый «Кедринский» лично отдаст приказ об аресте ее и ее детей? И предстанет перед царем, которого когда-то мечтал убить, вершителем его судьбы, полномочным представителем «новой России»?
…Не было и половины девятого, когда Керенский через боковую дверь («библиотечный подъезд», известный только посвященным) проник в Таврический дворец. В здании царила истерическая атмосфера. Коллеги Керенского, господа депутаты, пребывали в полной растерянности: столько лет они призывали бурю, а теперь, когда буря грянула, не знали, что предпринять. Один лишь Керенский всем своим видом показывал, что контролирует ситуацию и точно знает, что делать.
Попробуем теперь по достоинству оценить поразительную кривую его взлета на гребень волны! Он вышел из дома одним из депутатов Думы, одним из «теноров революции», бросающих в пороховой склад набитой вооруженными людьми столицы искры красноречия. А уже к вечеру он стал — единственным уверенным в себе человеком в растерянном русском парламенте, настолько уникальным и незаменимым, что умудрился вскоре войти в обе конкурирующие структуры власти — и во Временное правительство, и в Совет рабочих и солдатских депутатов!
Вот живая картинка, нарисованная участником и очевидцем событий того дня, Василием Шульгиным. Распахнув дверь, Керенский как привидение возник на пороге комнаты, в которой самоназначенные «министры» пытались выработать хоть какой-то план действий:
«Театральным жестом Керенский бросил пакет на стол:
— Наши секретные договоры с державами… Спрячьте…
После этих слов Керенский вышел, хлопнув дверью, а присутствующие в недоумении уставились на пакет.
— Что за безобразие, — сказал <глава Временного комитета Государственной думы> Родзянко, — откуда он их таскает?»
Так в чем же был секрет его силы, которую он черпал из электризованного воздуха революции, буквально из ниоткуда?
Первым среди российских политиков он сделал ставку на пиар (хотя до появления такого понятия в словаре политтехнологов оставались еще долгие десятилетия). Он научился не держаться за бесполезные аргументы, не выдвигать никому не нужные резоны, не захлебываться в разъяренном народном море, а скользить по его волнам, балансировать над его пучиной… Даже до буквального: после одной из брошенных им ярких, но совершенно бессмысленных фраз («Верите ли вы мне?! если — нет, то можете меня убить!») люди в шинелях подхватят его на руки и с воем восторга понесут из зала прочь — прямо к вершинам власти!
Для того, кто пытается представить себе тайные пружины истории, заглянуть в темный колодец, из которого вылетает человекоядный змей гражданской междоусобицы, биография Керенского — увлекательный, полный загадок и подсказок сюжет, далеко не исчерпанный…
«Кем ты стал!»
Отдельная увлекательная тема — проследить за тем, как стремительно схлынула волна восторгов, как хор тошнотворных восхвалений («…кристально-чистый, честный, искренний, мягкой души, скромный и деликатный до застенчивости…») сменился злословием и проклятиями. Питерские обыватели передавали из уст в уста сплетни и слухи — о том, что он якобы заказал чайный сервиз с монограммой «Александр IV», что он спит в Зимнем дворце в постели императрицы… Отсюда и прилепилось к Керенскому обидное прозвище «Александра Федоровна». Великолепный Бальмонт свысока пенял ему: «Кем ты был, кем ты стал! Посмотри на себя…» То, что еще недавно приводило революционный Петербург в состояние экстаза — его ораторские импровизации, его полувоенный френч, — станут теперь вызывать лишь смех и отвращение. А он-то остался тем же, каким был всегда! Забегая вперед, скажем: и через 10, и через 20, и через 30 лет, на чужбине, в изгнании, стареющий, нищий, почти слепой, он останется тем же — верящим в себя и свою правоту, самовлюбленным, нелепым в своем непрерывном лицедействе (еще в гимназии, а затем в университете он принимал участие в театральной самодеятельности и в письмах родителям подписывался «…будущий артист императорских театров»; современники утверждали, что ярче всего он проявил свои способности в роли Хлестакова.., из которой так и не смог выйти).
Еще во времена Государственной думы девушка-стенографистка однажды попросила у него тезисы его выступления, для упрощения работы по расшифровке его речи. «Какие там «тезисы»! — воздел он руки в комическом изумлении. — Когда я готовлюсь выступать, никогда не знаю, что скажу; а когда закончил — никогда не помню, что говорил!»
И этот-то человек самоуверенно взвалил на себя верховную власть в воюющей, охваченной беспорядками стране с тысячелетней историей, сотнями народностей, тысячами накопившихся социальных противоречий!
«Мы не совершали ошибок», — бросит он в конце своей долгой жизни. Почему же тогда для всех — и для союзников, и для политических противников, и для красных, и для белых — он стал ненавистным лузером, символом бессилия и поражения?
Смерть «месье президента»
Он пережил всех. Царя-мученика, которого малодушно обрек на смерть. Тяжеловесов и мудрецов Временного правительства, людей рассудительных и авторитетных, никогда не принимавших его всерьез, — Милюкова, Гучкова, Набокова-старшего… Героического Лавра Корнилова, который чуть было не повернул вспять колесо истории, но был арестован Керенским, что и предрешило крах «временных» властителей России. Пережил своего земляка Ленина, который отнял у него власть. Он стал сторонним свидетелем победы его страны над Гитлером, испытания советской атомной бомбы, из своего XIX века он шагнул аж в 50-е, 60-е годы XX века, дополз до порога 70-х… Проницательная писательница Нина Берберова назвала его «человеком, убитым 1917 годом». И никакие воспоминания, письменные и устные, никакие интервью, лекции в заморских университетах не компенсировали его бессрочной отставки от жизни. Он любил повторять, что старается чаще летать самолетом, так как надеется погибнуть в авиакатастрофе… Но Бог наказал Керенского сказочным долголетием — и чашу унижений, разочарований и угрызений Александр Федорович испил до самой последней капли.
Во время одной из горчайших старческих болезней сыновья (когда-то, в угаре революционных дней, брошенные им в опасности и болезни, без средств к существованию, но с несмываемым пятном смертельно опасной фамилии) пристроили его, неплатежеспособного, в дешевую лондонскую больницу… Каков же был ужас Керенского, когда, придя в себя, он осознал, что это за больница — финансируемый правительством Великобритании бесплатный абортарий для женщин из социальных низов!
Рыдающий Керенский кричал:
«Вы не понимаете, что это значит — умереть в женской клинике мне, после тех дурацких слухов о моем бегстве в женском платье! Лучше уж я умру на улице, под забором!»
Когда он оказался в больнице в следующий раз, весной 1970-го, после рокового падения на улице, он так страстно желал смерти, так мучительно боролся с жизнью, что тем самым, по свидетельству врачей, парадоксально ее продлевал… Как бы ни были велики наши претензии к нему, его мучительную кончину невозможно представить себе без содрогания и сочувствия. Обездвиженный, плохо слышащий, почти ослепший, давно переживший свою славу властитель, «месье Президент», как называли его официанты в парижских кафе… Свою последнюю спутницу он умолял принести ему яд, кричал на врачей и медсестер, отказывался принимать лекарства. В конце концов он сорвал повязки и умер, отправившись на Суд, который и справедливей, и милосерднее нашего, человеческого.
Как ни трудно в это поверить, масон и неудавшийся цареубийца Керенский всегда считал себя человеком верующим, православным. С увлечением пел на клиросе, отмечал церковные праздники, а упокоился — после тягостных посмертных мытарств — хоть и на непонятном кладбище «для лиц без вероисповедания», но — под православным крестом, рядом с оскорбленной и брошенной им когда-то первой женой.
Немногие охотники отнестись к его личности «без гнева и пристрастия» признают, что он по натуре не был кровожадным, искренне не любил кровавых «эксцессов» — и это при диктаторских полномочиях, в дни смуты, когда человеческие жизнь и достоинство вообще ничего не стоили. На другую удивительную черту его биографии указывает его внук, Степан Глебович, живущий сегодня в Британии: «Говорили, он прихватил с собой несметные богатства… А у него даже банковского счета никогда не было!» Нам, привыкшим к разоблачениям отрешенных от власти казнокрадов с их припрятанными миллионами, это бескорыстие Керенского кажется настоящим чудом.
Он мечтал открыть в русской истории новую, демократическую эру… А в итоге если чем и послужил России — так это собственным примером, наглядным для всех, кто выбирает скользкое политическое поприще: только обостренное чувство ответственности, только внутреннее смирение и способность видеть себя со стороны, только со-трудничество с Богом и ровное упорство, неукоснительный, ежедневный труд могут приносить благие плоды, а не те дьявольские суррогаты, которые рано или поздно углями сыпятся на стриженую бобриком голову ряженого самозванца, любящего себя в искусстве гораздо сильнее, чем искусство в себе.
Читайте также:
Трагедия священника Гапона
Мифы о Февральской революции
5 ВОПРОСОВ О РЕВОЛЮЦИИ И ПАТРИАРХЕ